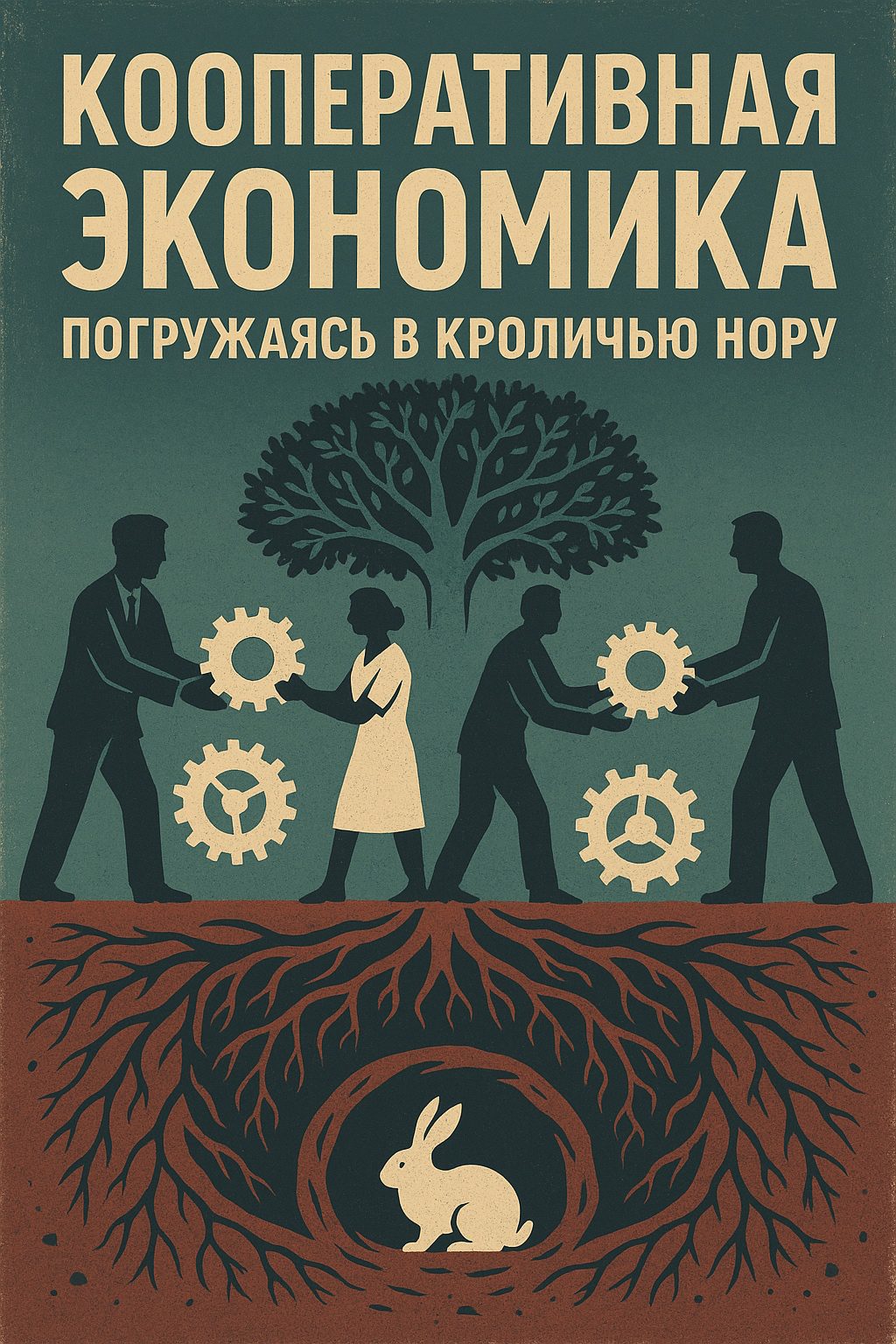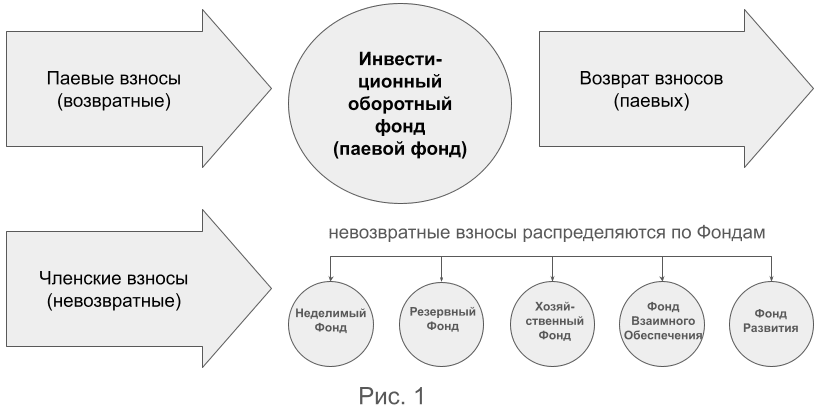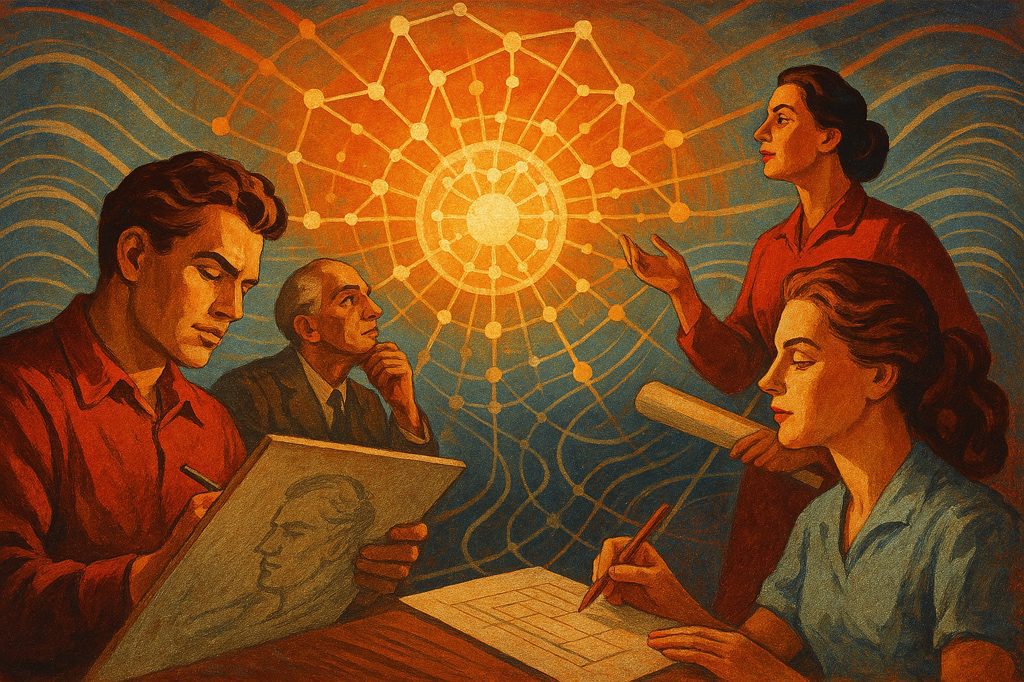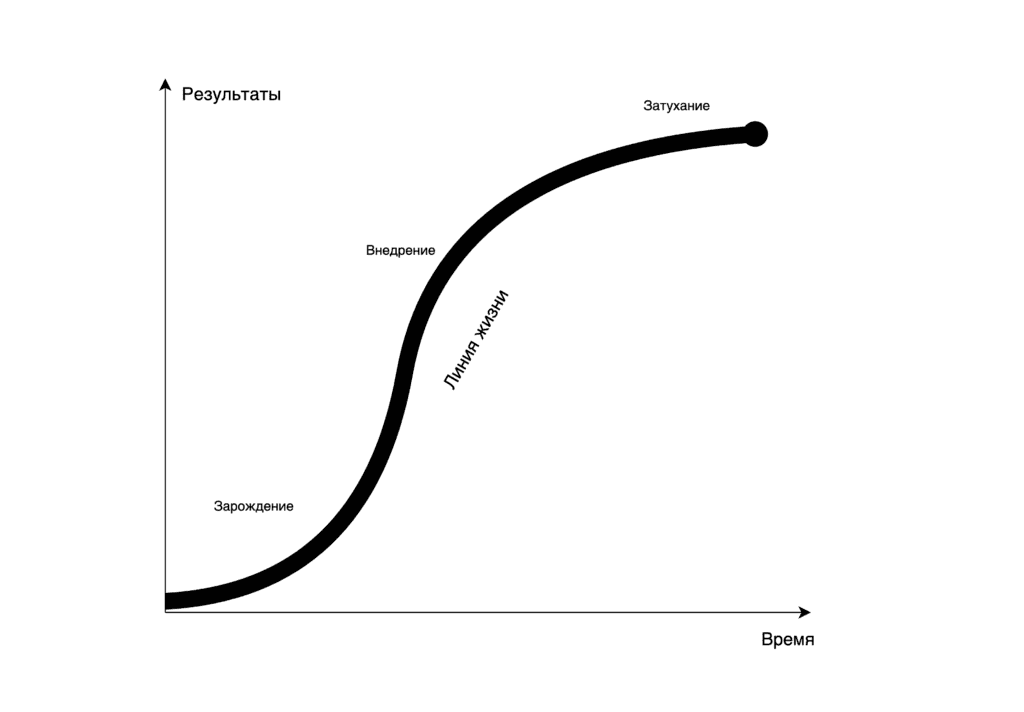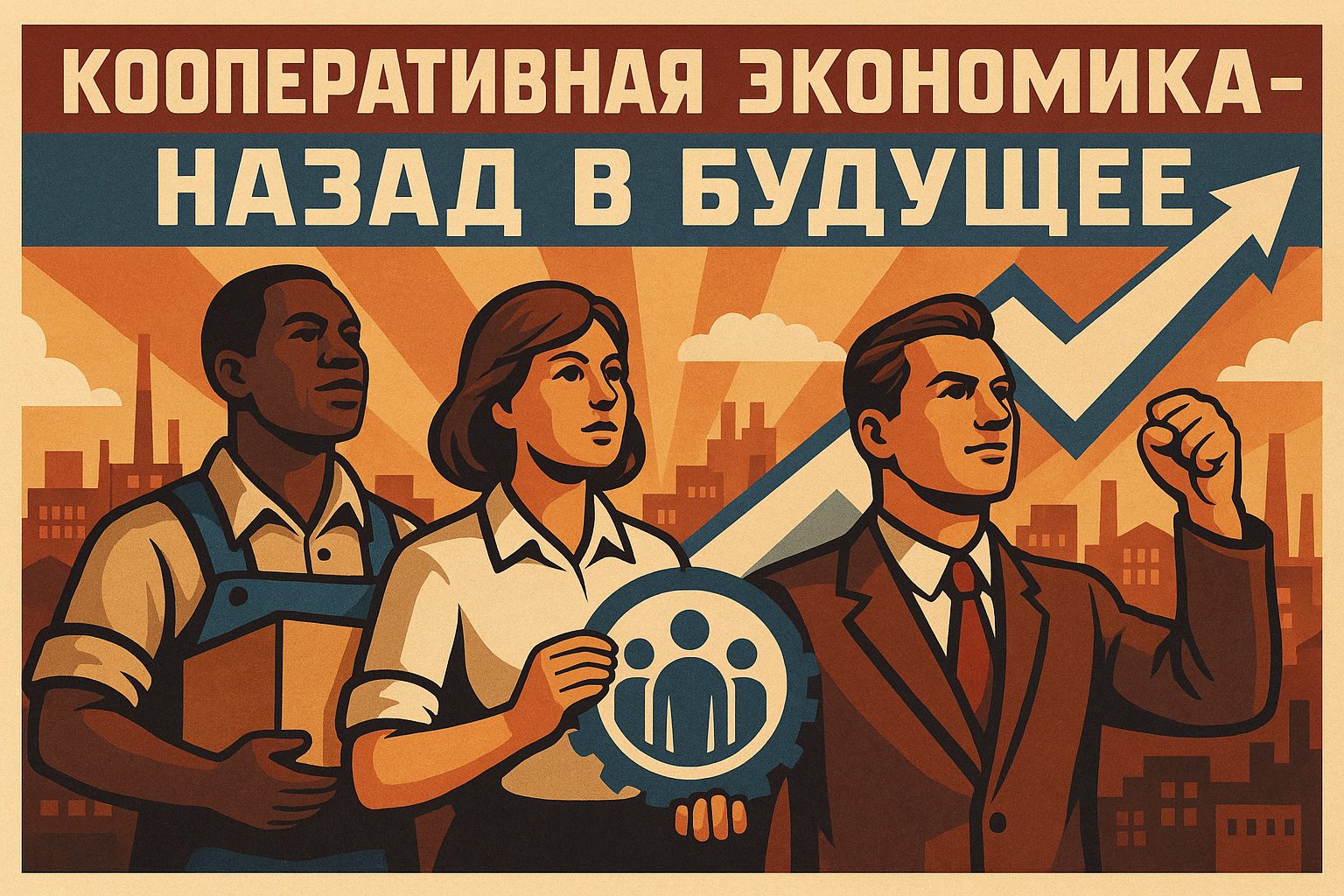И.И. Смуров, Р.Х. Давлетбаев
Исторические циклы капитализма: взгляд мир-системных теоретиков
Иммануил Валлерстайн и Джованни Арриги описывают историю мировой капиталистической экономики как серию длительных циклов, в которых гегемонические державы и модели накопления капитала сменяют друг друга. Валлерстайн, основываясь на идеях Фернана Броделя о longue durée, утверждает, что современная мировая экономическая система капитализма зародилась в «длинном» XVI веке и с тех пор прошла через периоды подъемов и кризисов гегемоний – от венецианцев и генуэзцев, голландской и британской до американской. Эти циклы характеризуются экспансией, ростом неравенства и последующими кризисами, которые открывают возможность структурной трансформации системы.
Арриги дополняет эту картину концепцией системных циклов накопления капитала. В каждой эпохе центр мировой экономики перемещался – итальянские города-государства, Нидерланды, Британия, США – сопровождаясь фазами материальной экспансии, а затем финансовой «спекулятивной» экспансии, сигнализирующей закат гегемонии, и кризисом, который трансформирует экономическую миросистему.
Глава 1: Миросистемные циклы накопления капитала
История капитализма, начавшего свое формирование в 15 веке, демонстрирует циклические взлеты и спады гегемоний, вплетенные в ткань миросистемы (по терминологии И. Валлерстайна). Джованни Арриги, развивая идеи Фернана Броделя, выделил четыре исторических системных цикла накопления капитала – последовательные эпохи, когда лидерство в экономике капитализма переходило от одной державы к другой. Эти циклы соответствуют и смене гегемонов в глобальной экономической миросистеме капитализма: (1) генуэзско-иберийский (XV – начало XVII вв., финансовый центр – Генуя в союзе с колониальными империями Испании и Португалии); (2) голландский (середина XVII – конец XVIII вв., гегемон – Нидерланды); (3) британский (XIX – начало XX вв., гегемон – Британская империя); (4) американский (XX век – рубеж XX–XXI вв., гегемон – США). Каждый такой системный цикл проходит фазу материальной экспансии (подъема производства и торговли) и последующую фазу финансовой экспансии (когда капиталы, ввиду снижения прибыли и роста издержек, переключаются на спекулятивные инвестиции и финансовые операции). В конце каждой финансовой фазы наступал кризис, после которого центр накопления перемещался в новый регион, запускался следующий цикл.
Однако циклы различаются не только географией и временем, но и преобладающими структурами организации экономики и власти. Историческая эволюция капитализма проявляет чередование “сетевых” и “корпоративных” моделей доминирования. По наблюдению Арриги, первые и третьи циклы носили экстенсивный, космополитично-имперский характер, а вторые и четвертые – интенсивный, корпоративно-национальный. Проще говоря, одни гегемонии расширяли границы мировой системы, другие – консолидации уже достигнутого пространства через построение более сложных организационных форм. «Under the Genoese regime, the world was ‘discovered’, and under the British it was ‘conquered’», – пишет Арриги, – «The Dutch and the US “corporate-national” regimes, in contrast, were intensive […] responsible for consolidation rather than expansion of the world capitalist system».
Генуэзский капитал XVI века действовал как сетевая структура: финансовая олигархия Генуи, будучи без сильного государства, опиралась на дальние диаспорные сети и политический союз с могущественными монархиями (Габсбургами). Мир фактически “открывался” – через Великие географические открытия испанцев и португальцев – а генуэзцы извлекали прибыль, переправляя поток серебра и товаров по своим каналам.
Напротив, Голландия XVII века создала первую современную корпоративно-государственную систему: голландцы “интернализовали” военную защиту и торговые функции, которые генуэзцам приходилось отдавать на сторону. Амстердам стал центром мировой торговли того времени, опираясь на акционерные компании (такие как Ост-Индская компания – первая транснациональная корпорация) и на финансовые биржи. Голландский цикл был интенсивным: новые земли открывали в основном другие, а голландцы закрепляли контроль над уже известными маршрутам и рынками, выстраивая колониальные фактории и монополизируя прибыльные ниши.
Затем, пришедшая на ей смену британская гегемония XIX века, вновь носила экстенсивный характер. Великобритания превратилась в “мастерскую мира” и создала огромную империю – от Индии до Африки – фактически покорив большую часть мира. Британский капитализм сочетал промышленную революцию (массовое фабричное производство) с глобальной торговой сетью под защитой мощнейшего военно-морского флота. Можно сказать, британская модель, основанная на средних, подчас семейных, компаниях, объединила государственную имперскую мощь и разветвленную сетевую систему международной торговли (политика свободной торговли после 1840-х позволила британским товарам и финансам проникнуть повсюду).
Наконец, американский цикл XX века снова стал “интенсивным” этапом консолидации. После двух мировых войн США унаследовали экономическое господство от Британии и структурировали мировой рынок через сеть национальных государств и транснациональных корпораций. Американская модель – это крупные корпоративные конгломераты — вертикально интегрированные компании (авто-, нефтяные, финансовые), глобальные банки и институты, интегрированные в систему, где доллар и Голливуд распространяют стандарты потребления. США не столько завоевывали новые территории, сколько институционально оформляли уже глобализированный мир – через ООН, Бреттон-Вудскую финансовую систему, ТНК и военные блоки.
Таким образом, каждому циклу соответствовал свой преобладающий тип структуры: от торговых сетей раннего капитализма – к национально-корпоративным империям – снова к сетевому колониализму – и к современному корпоративному глобализму. В таблице ниже обобщены ключевые черты этих циклов и доминирующих структур:
| Системный цикл (гегемон) | Период | Преобладающий тип структуры |
| Генуэзско-иберийский (Генуя + Испанско-португ. империи) | XV – нач. XVII вв. | Сетевая, космополитическая (диаспоральные финансово-торговые сети без собственного мощного государства). Мир «открыт» географически; капитал действует через гибкие сети в связке с чужими державами. |
| Голландский (Нидерланды) | сер. XVII – кон. XVIII вв. | Корпоративно-национальная (первая биржа и акционерные компании под эгидой сильного национального государства). Мир систематизирован: голландцы консолидируют контроль над торговлей через монополии (VOC и др.), колонии и протекционизм. |
| Британский (Великобритания) | XIX – нач. XX вв. | Имперско-сетевая (глобальная колониальная империя + свободная торговая сеть). Мир «покорён» территориально; британская экономика сочетает индустриальные компании внутри страны и разветвленные внешние рынки и финансовые потоки под её контролем. |
| Американский (США) | XX в. (до ~2020 г.) | Вертикально-интегрированные компании, корпоративно-национальная, транснациональная (мощные национальные корпорации, перерастающие в глобальные, при поддержке государства). Мир консолидирован в единое целое: долларовая финансовая система, мировые институты, сети ТНК и военно-политических союзов во главе с США. |
Как видно, происходит своеобразное чередование: сетевая модель – корпоративно-государственная модель – снова сетевая (но уже на новой основе) – и снова корпоративная, на еще более высоком уровне концентрации капитала. При этом масштаб и сложность систем постоянно возрастают: каждое новое ядро накопления охватывает больший объем ресурсов и пространства, чем предыдущее. Важно, что длительность циклов при этом сокращается – например, британская гегемония длилась меньше, чем генуэзская, а американская короче голландской, – что свидетельствует об ускорении миросистемы капитализма.
Арриги указывал, что начиная с 1970-х началась финальная финансовая фаза американского цикла (капитал бежит в спекулятивные операции, глобальные финансовые центры – Нью-Йорк, Лондон – процветают, а реальный сектор стагнирует), а это означает скорый закат американской гегемонии, что мы, собственно, воочию наблюдаем сейчас.
Сначала “рейганомика”, а затем грабеж на развале Советского Союза дали возможность миросистеме с американским доминированием просуществовать до кризиса 2008 года (который был с трудом загашен “количественным смягчением”). Вроде бы, пора воскликнуть: “Король умер, да здравствует Король!”?
Однако, современный кризис не похож на обычные циклические спады; напротив, это структурный кризис всей миросистемы, о котором писал Валлерстайн как о времени “бифуркации” — состоянии хаотической нестабильности, из которого возможны несколько исходов. В такой период малые флуктуации могут привести либо к формированию новой устойчивой системы, либо к восстановлению порядка на новой основе. Однако возврат к прежнему «нормальному» функционированию уже невозможен.
Отечественные экономисты Михаил Хазин, Андрей Кобяков и Олег Григорьев, в свою очередь, в начале 2000-х представили свою концепцию текущего кризиса капиталистической миросистемы, названную кризисом падения эффективности капитала (ПЭК), выводы из которой созвучны Валлерстайну. В их теории современный мировой кризис также не циклический, а структурный, являющийся повторением кризиса 1970-х годов — кризис падения эффективности капитала. Суть проблемы в том, что возможности экстенсивного роста прибыли исчерпаны: наблюдается глобальное падение эффективности капитала, когда прежние инвестиции не приносят ожидаемой отдачи. За прошедшие десятилетия глобальный спрос был искусственно раздут посредством кредитов и финансовых деривативов. Теперь, чтобы привести совокупный спрос в соответствие с реальными доходами, пришлось бы “сжать” лишние сектора экономики, что грозит массовым обнищанием населения. Таким образом, механизм отсрочки кризиса через финансовую экспансию и долговую накачку себя исчерпал.
Теория ПЭК пытается объяснить и природу нынешних потрясений. В отличие от обычных деловых циклов, кризисы падения эффективности капитала знаменуют смену технологических укладов и перестройку всей системы хозяйства. М. Хазин и О. Григорьев рассматривали подобные кризисы как момент, когда старая модель роста себя изжила, а новая еще не оформилась. Так, в СССР начала 1960-х тоже фиксировался кризис падения эффективности капитала – аналогичная проблема, предшествовавшая стагнации советской экономики. На Западе же кризис 1970-х был преодолен ценой роста долга и увеличения неравенства. Сегодня эти противоречия вылились в глобальную турбулентность: стагнация реального сектора, “зомби-фирмы”, социальное расслоение (в т.ч. и в появление прото-класса прекариата), политическая нестабильность в разных странах.
По сути, мир стоит перед выбором: либо попытаться сохранить старую систему ценой жестких мер (что, как в унисон предполагают М. Хазин и И. Валлерстайн, может вылиться в неофеодальную или авторитарно-корпоративную модель), либо пойти по пути посткапиталистической трансформации. Этот выбор не предрешен и является предметом острой борьбы между элитами и социальными силами, стремящимися к разным вариантам будущего.
Глава 2: Капитализм — все?
Возникает вопрос: кто или что придет на смену США? Многие дают автоматический ответ – Китай. Однако, как мы обсудим далее, с Китаем — не всё так однозначно. Арриги в поздних работах («Адам Смит в Пекине»), правда, допускал, что лидерство может перейти к Восточной Азии и, особенно, к Японии, как ее наиболее, на тот момент, развитой экономике, но считал возможным и качественно иной исход, вплоть до конца самой капиталистической логики гегемоний. Некоторые современные социологи (например, М. Манн) предполагают, что после упадка США нас ожидает мультиполярная сеть сил, а не единый гегемон.
Это созвучно идее, что переход миросистемы к сетевым структурам малых и средних интегрированных акторов – закономерность, вытекающая из всего хода цикла. Почему закономерность?
Во-первых, мы подошли к пределу масштабирования гегемона. Более того, мы наблюдаем, как эта гегемония скукоживается, несмотря на неуклюжие попытки “держать лицо”. Сложно представить актора более крупного, чем ранее США с их глобальными корпорациями и военной машиной, разве что всемирное правительство. Но его создание крайне маловероятно и противоречит разгулу конкуренции. Наоборот, признаки времени – относительная фрагментация, кризис международных институтов, рост влияния региональных держав и негосударственных игроков. Это и есть рождение полицентрической сети. В этой сети есть несколько крупных узлов (США, Китай, ЕС, возможно Индия, даже аморфный БРИКС и т.д.), но ни один не обладает бесспорной гегемонией как раньше. Капитализм глобализовался настолько, что капиталы свободно текут через границы, выбирая наиболее выгодные юрисдикции и площадки – тем самым размывая привязку ккакому-либо одному государственному “домену”. Валлерстайн писал, что в период структурного кризиса 2010–2030-х гг. мы увидим попытки разных центров перехватить лидерство, но система, вероятно, останется нестабильной вплоть до своего переформатирования.
Тенденцию полицентричности, отметил российский экономист Олег Григорьев, еще в 2000-х введя понятие «технологические зоны» для описания формирующейся структуры мировой экономики. Согласно его видения, технологическая зона – это группа стран, объединённых глубокой кооперацией и разделением труда, практически самодостаточная в производстве всего необходимого комплекса товаров. Иными словами, технологическая зона представляет собой макрорегиональный блок, внутри которого выстроены замкнутые производственные циклы, минимально зависящие от внешнего мира. Примером такой зоны Григорьев называл Американскую технологическую зону, сложившуюся после Второй мировой войны, включающую США, Западную Европу, Японию и примкнувшие страны. Благодаря научно-техническому прогрессу ведущая страна зоны (США) смогла рассредоточить производство по всему блоку: наукоемкие и высокомаржинальные отрасли концентрировались в центре, трудоемкие и ресурсоемкие – переносились на периферию зоны (например, промышленность в Мексику или Юго-Восточную Азию, добыча ресурсов – на Ближний Восток, в Африку и т.д.). Такой моделью мир жил во второй половине XX века.
Однако любая технологическая зона строится вокруг лидера, доминирование которого порождает неравенство внутри зоны. Пока идет рост, периферия терпит лидерство центра ради общих выгод, но в кризисной ситуации главный игрок начинает спасать себя за счёт сателлитов, что ведет к конфронтации. Эта динамика проявилась, например, в Евросоюзе во время кризиса 2008–2012 гг., когда богатые страны (Германия, Франция) продиктовали жесткую экономию периферийным странам (Греция, Испания), усилив там кризис. О. Григорьев и М. Хазин предположили, что мировой кризис приведет и к переформатированию технологических зон. Американская зона более не способна обеспечивать рост, и на ее месте могут возникнуть несколько новых зон: возможно, Китайская (Восточноазиатская) технологическая зона, куда войдут страны Азии под экономическим лидерством Китая; Евразийская зона вокруг России и стран бывшего СССР; Европейская зона, если ЕС обособится; а также, вероятно, Индо-Тихоокеанская зона, формируемая Индией и партнёрами. Такая картина и представляет собой сеть из нескольких полюсов – сетевую полицентричность.
Важная ее особенность – отсутствие единого центра, диктующего всем остальным нормы. Вместо этого идет конкуренция и взаимодействие глобальных проектов – цивилизационных моделей, основанных на разных ценностях и экономических подходах. Концепция «глобальных проектов» (еще одна разработка О. Григорьева) утверждает, что помимо экономических зон мир будет разделен по идеологическим линиям: Западный либеральный проект, Китайский (Конфуцианский) проект, Исламский проект, Российский (евразийский) проект и т.д.
Во-вторых, происходит технологическое сокращение масштабов эффективной организации. Новые технологии (интернет, блокчейн, 3D-печать) снижают минимальный эффективный размер экономической единицы. Если индустриальная эпоха вознаградила гигантов (заводы-конвейеры, национальные корпорации, империи, концентрация капитала), то сетевая эпоха благоприятствует дезагрегации. Малые и средние предприятия, объединенные в кооперативные цепочки, могут совместно достигать эффекта масштаба, не уступающего корпорациям, оставаясь при этом более гибкими и устойчивыми. Пример – развивающиеся сети поставщиков в форме кластеров и промышленных округов (как в кейрецу в Японии, Северной Италии или в хай-тек долинах Китая), где множество МСП координируются горизонтально. Ещё пример – платформенная кооперация: сотни водителей могут образовать кооператив и запустить свою платформу вызова такси, конкурируя с Uber, но распределяя доход справедливо. То есть, сеть мелких акторов способна имитировать крупного актора без концентрации собственности в одних руках. Исторически можно усмотреть параллель: генуэзская “империя без империи” основывалась на сети банковских домов и договорных связей; теперь, на новом витке, мы возвращаемся к сетевой структуре, но на глобальном цифровом уровне.
В-третьих, логическая конечность системы (не просто цикла) заключается в распространении капиталистических отношений на весь земной шар и одновременном исчерпании возможностей экстенсивного расширения. По определению Валлестайна мир входит в состояние “асимптоты”, когда дальнейшее развитие мировой экономики находится в пределах статистической погрешности. Арриги, анализируя предыдущие переходы, отмечал, что новый гегемон обычно предлагал миру обновленную модель развития, открывая новые фронтиры для накопления капитала. Голландия – торгово-финансовые инновации, Британия – промышленная революция, США – массовое конвейерное производство и потребление (фордизм) и затем информационно-финансовая революция. Сейчас же для очередного прыжка нужен, образно говоря, новый “фронтир” – качественно иное пространство (например, космос или виртуальная реальность) или принцип организации. Многие надеялись, что таким будет Интернет – и в самом деле, Интернет создал колоссальную новую сферу экономики. Но он же привёл к обострению всех противоречий: глобальная конкуренция стала мгновенной, неравенство усилилось, рынки мгновенно насытились.
Если взглянуть с миросистемной точки зрения, то переход от одной гегемонии к другой всегда сопровождался войнами и потрясениями (Тридцатилетняя война при переходе к голландской гегемонии, Наполеоновские войны – к британской, две мировые войны – к американской). Наш период тоже отмечен ростом турбулентности, локальных конфликтов, кризисов. Но результатом вполне может стать не появление нового “мирового жандарма”, а сетевая полицентричная структура – своего рода неоконфедеративная мировая система. И хотя такой исход кажется хаотичным, некоторые считают его закономерным завершением эпохи капитализма. Ещё Фернан Бродель писал о “мире экономики, состоящем из множества экономик-миров”, намекая, что единого глобального рынка может и не быть вечно. Возможно, что будущее – это конфигурация многих относительно самостоятельных региональных или сетевых экономических систем, связанных между собой ограниченно (через протоколы, как интернет).
Из всего написанного выше, напрашивается вывод: капитализм, как экономика миросистемы, умер — идет разложение его трупа. Это не кризис роста, это кризис самой логики капитализма — логики бесконечного расширения в мире конечных возможностей. Сокращение длительности циклов Арриги — красноречивое доказательство тому. Современный капитализм оказался в ловушке собственных предпосылок — он «съел» себя. Эпоха финансовизации, заместившая индустриальный капитал, не создала новых производящих форм, а лишь перераспределила власть через контроль над будущим — в форме долга, данных и инфраструктур.
Экономический рост — главная легитимация капитализма — практически прекратился. Производительность стагнирует, демографическая ситуация в развитых странах деградирует (опасное уменьшение коренного населения при росте мигрантов с отличной культурой), ресурсы исчерпываются, а инновации становятся инкрементальными. Это не конъюнктурный кризис — это исчерпание самой цивилизационной логики “бесконечного рынка”, в которой, собственно, и рынка в его классическом понимании, описанным у Адама Смита, уже давно нет.
Фернан Бродель, в свое время, назвал капитализм «антирынком». Исторически капитализм всегда стремился монополизировать, контролировать и отменять рынок, опираясь на сговор с властью и непрозрачные практики. Бродель отмечал, что «капитализм всегда был монополистичен», в этом его естество. Свободная конкуренция множества мелких фирм – идеализированный «рынок» Адама Смита – в реальности вытеснялась крупными игроками, использующими государственный аппарат и финансовые инструменты для господства. В каждом цикле капитализма его успех базировался на создании иерархии и зависимости: крупных центров и периферии, монополий и подчинённых фирм. Однако эти же антиконкурентные тенденции порождали внутренние противоречия и кризисы, подготавливая почву для новой эпохи. Эпохи пост- капитализма!
Карл Поланьи в знаменитой работе «Великая трансформация» описал двойственное движение (double movement) в развитии рыночного общества. Первая фаза – это рыночная либерализация, когда сторонники laisser-faire пытаются «вывести экономику из общества», подчинив все социальные отношения логике саморегулирования. Земля, труд и деньги превращаются в товар, а рынок диктует условия жизни людям. Но эта попытка каждый раз неизбежно вызывает ответную реакцию – контрдвижение общества. Вторая фаза – стремление вновь встроить экономику в социальные рамки через защитные меры: социальное законодательство, регулирование, протекционизм и другие формы защиты людей и природы от разрушительного естества капитализма. Прямо-таки, экономическая история России за последние 30 лет!!!
Поланьи подчеркивал, что рынок не может существовать вне общества – государство и социальные институты всегда участвуют в его создании и ограничении. Исторический пример: резкий рыночный всплеск XIX века привел к кризисам, на которые общество ответило внедрением рабочего законодательства, профсоюзов, протекционистских мер и в конечном счете формированием модели социального государства в середине XX века. Это сохранило капитализм, но преобразовало его – Поланьи отмечал, что именно эта защитная «двойная» реакция общества позволила капитализму выжить, смягчив его разрушительные эффекты.
Современное значение идей Поланьи состоит в том, что новый цикл либерального фундаментализма (неолиберализм с 1980-х) уже вызвал ответные движения: от требований социально-экологической ответственности бизнеса до возрождения кооперативов и локальных экономик. Нынешний кризис глобального lаissez-faire неизбежно приведет либо к установлению новых защитных механизмов и более социально встроенной экономики, либо – если контрдействие будет недостаточным – к деградации в более жесткие, авторитарные формы (напоминая катастрофы межвоенного периода). Таким образом, в логике Поланьи посткапиталистическая трансформация возможна как осознанное «перевстраивание» экономики в интересах общества. Это может выражаться в переходе к новым моделям хозяйствования, где рыночные отношения смягчаются социальными связями, кооперацией и регулированием – в противовес как диктату сверхкорпораций, так и гипертрофированному технократическому контролю.
Какой же на самом деле будет преобладающая структура посткапиталистической миросистемы – вопрос открытый. Некоторые признаки указывают на возможное сочетание черт: и мощные государственно-корпоративные образования (например, госкомпании), и разветвленные наднациональные сетевые платформы. Своего рода, новой формы организации – “корпоративно-сетевой” – где гигантские корпорации опираются на распределенные сети данных и знаний. Так или иначе, анализ предыдущих миросистемных циклов дает полезную перспективу для понимания современных процессов. Он показывает, что даже самые могущественные державы и структуры подчиняются ритму исторических циклов, а в основе их взлета лежит способность адаптировать организационную форму к вызовам времени – будь то гибкая сеть купцов или бюрократия транснационального концерна. И в этом контексте опыт России со своим “беспоповским” коммунизмом и нынешними поисками идентичности оказывается частью большого циклического узора, связывающего культурные коды и экономические системы воедино, но об этом ниже.
Глава 3: Китай: гегемон или ускоритель краха старого порядка?
Отдельного внимания заслуживает роль Китая в нынешней трансформации. Часто звучит тезис: после США новым мировым гегемоном станет Китай, и XXI век станет «китайским веком». Сторонники этой версии указывают на колоссальный рост китайской экономики, технический прогресс, инициативы вроде «Одного пояса, одного пути» (нового Шелкового пути), скупку активов по всему миру и т.д. Однако если взглянуть через призму исторических циклов, возникает альтернативный сценарий: Китай может сыграть роль „подрывателя“ старой миросистемы, не став при этом архитектором нового порядка – подобно тому, как некогда Германия в 1910–1930-х годах подорвала устоявшуюся британскую гегемонию, но сама не смогла установить свою долгосрочную гегемонию.
Вспомним историю: к началу XX века Британская империя была мировым лидером, но бурный рост Германской империи бросил ей вызов. Британия с союзниками сумела в двух мировых войнах сдержать и разгромить Германию, фактически не дав ей стать гегемоном. Однако эта победа далась ценой колоссального напряжения: Великобритания истощила свои ресурсы, потеряла финансовое преимущество и колонии; в итоге пальму первенства унаследовали США. Германия же хотя и проиграла, де-факто разрушила старый миропорядок: после 1945 ни британская колониальная система, ни многовековая европейская доминанта уже не восстановились. Другими словами, Германия выступила катализатором краха прежней гегемонии, хотя сама не стала наследником трона.
Перенесем эту логику на сегодня. Китай стремительно набрал экономическую мощь внутри американоцентричного порядка: воспользовавшись глобализацией, стал “фабрикой мира”, накопил гигантские финансовые резервы, освоил современные технологии. К 2020-м годам Китай уже бросает вызов интересам США на нескольких фронтах: торговом (конкурируя и местами вытесняя американские компании), финансовом (создавая альтернативы вроде Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, продвигая юань во внешней торговле), геополитическом (расширяя влияние в Азии, Африке, Латинской Америке). Ответ США предсказуем: политика сдерживания. Американские стратеги открыто заявляют, что постараются “сбить Китай с ног, как когда-то сбили с ног Германскую империю в Первой мировой, Японскую – во Второй, и Советский Союз – в холодной войне”. Мы уже наблюдаем проявления новой холодной войны: торговые пошлины, технологическое эмбарго (санкции против Huawei и др.), военное окружение Китая альянсами (QUAD, AUKUS), дипломатическое давление. И Китай, и США усиливают военную готовность в Тихоокеанском регионе; Тайвань, Южно-Китайское море стали потенциальными точками возгорания. Эта конфронтация – симптом терминальной фазы гегемонии: как Британия 100 лет назад, США пытаются удержать лидерство силой, а как Германия тогда, Китай невольно ускоряет подрыв устоявшейся системы, даже если не победит в конечном счёте.
Что произойдет, если США и Китай столкнутся (не обязательно военно, но экономически и политически) и взаимно ослабят друг друга? Это крах старого мирового порядка – конец эпохи pax americana (с доминированием доллара, американскими стандартами). Но станет ли Китай новым централизованным лидером? Сомнительно. Во-первых, Китай структурно и культурно не может и не стремится к роли мирового гегемона в общепринятом понимании. Полная гегемония зиждется на трех составляющих: экономике, военной силе и культуре. Если с экономикой у Китая все более-менее, то военная (тут помимо США, есть и Россия) явно не соответствуют гегемонистским амбициям. С культурно-идеологическим магнетизмом Китая совсем нехорошо: США веками привлекали миллионы иммигрантов, Голливуд и “американская мечта” покоряли умы повсюду. Китай же, с его относительно закрытым обществом и трудным языком, едва ли может стать объектом массового подражания или мечтаний за пределами своего региона. Его «мягкая сила» ограничена.
Китайская стратегия скорее оборонительная: обеспечить свою безопасность, экономические интересы и постепенное расширение влияния, но без несения затрат на содержание глобальных институтов (таких, какие США несли после 1945, выступая “мировым жандармом” и гарантом международных правил). Китай предлагает партнёрам сугубо прагматичные отношения (“торговля и инвестиции без политических условий”), что привлекательно для многих развивающихся стран, но это не идеология глобального порядка. Нет аналога бреттон-вудской системы или плана Маршалла от Китая – по крайней мере пока. Его проект “Пояс и путь” – это сеть инфраструктурных проектов, связывающих страны с Китаем, но они двусторонние, без создания наднациональной архитектуры правил.
Во-вторых, Китай сталкивается с рядом внутренних ограничений, которые могут помешать ему взять на себя лидерство. Демографически страна стареет – результат политики “одна семья — один ребенок”; рабочая сила уже не дешевая, растет социальное неравенство между богатыми мегаполисами и бедной провинцией. Экологические проблемы (загрязнение, нехватка воды) давят на перспективы роста. Модель экспортоориентированной экономики достигла насыщения – мировые рынки не могут бесконечно поглощать китайские товары, да и конкуренты (Индия, Юго-Восточная Азия) наступают на пятки. Финансовая система Китая несёт риски (долги местных правительств, пузырь недвижимости). Политически режим КПК опирается на экономический рост для легитимности; если рост замедлится, очень вероятны внутренние потрясения.
В-третьих, отсутствие финансового лидерства: юань пока не может (да и не хочет!) заменить доллар как глобальную резервную валюту. Китайский финансовый рынок контролируется государством, конвертируемость юаня ограничена, доверие мировых инвесторов к китайским институтам уступает доверию к англо-американским. В истории гегемон всегда брал на себя роль главного финансового центра: Голландия в XVII в. (Амстердам – центр мировой торговли и финанс), Лондон в XIX, Нью-Йорк в XX. Пока Пекин/Шанхай не готовы стать спокойной гаванью для глобального капитала – капитал скорее бежит из Китая в моменты нестабильности, чем ищет там убежище. Более того, китайский успех во многом интегрирован в существующую систему: КНР – крупнейший торговый партнёр десятков стран, но торговля эта строится по правилам ВТО, морские пути охраняются ВМС США, технологии в большей части позаимствованы с Запада. Резкий слом системы – например, военный конфликт или новая холодная война – больно ударит и по Китаю, лишив его многих рынков. Поэтому Пекин действует осторожно: он скорее заинтересован продлить жизнь нынешней глобальной системе, постепенно переформатируя её под себя, но не рушить внезапно.
Однако объективная логика противостояния может привести к тому, что старая система рухнет независимо от намерений — логика обстоятельств, как всегда, окажется сильнее. Попытки США удержать гегемонию любой ценой – санкциями, военным давлением – подрывают устои глобальной торговли и многосторонности. Китай, защищаясь и продвигаясь, пытается выстраивать параллельные структуры (набивший оскомину БРИКС, ШОС, расчет в нацвалютах), отдаляющие мир от единого центра. Если сравнивать с межвоенным периодом: тогда ни Великобритания, ни Германия не смогли предложить миру стабильный порядок – в результате 1930-е были временем распада глобальной экономики на блоки, торговых войн, валютных зон. Сейчас есть существенный риск повторения – формирования региональных блоков вокруг США и Китая, а возможно России и Индии, со своими технологиями, стандартами, платежными экосистемами. Это ускоряет конец старой миросистемы, основанной на “правилах”. Но не создаёт автоматически новую устойчивую систему – скорее, наступает длительный период неопределенности (как Валлерстайн говорил, бифуркации, когда исход не предрешен, и возможны различные варианты будущего порядка).
В такой ситуации Китай можно уподобить “ускорителю краха”. Его историческая миссия, возможно, не в том, чтобы мирно возглавить продолжение капитализма, а в том, чтобы невольно подтолкнуть капитализм к завершающему кризису. Арриги писал, что Китай мог бы возродить принципы рыночной экономики без капиталистов, опираясь на свою традицию административного рынка (в имперском Китае существовал развитый рынок товаров при сильной роли государства и слабом развитии частного промышленного капитала). Но реалии современного Китая спорят с этой романтикой: нынешний Китай – скорее уникальный гибрид государственно-монополистического капитализма, где партия выступает коллективным капиталистом. Он стремится не отменить прибавочную стоимость, а присвоить ее национально и перераспределить внутри страны, сохраняя иерархию (классовую и статусную). То есть, Китай не предлагает радикально иной парадигмы (как, скажем, предлагал СССР с коммунизмом) – он лишь предполагает смещение центра богатства и силы. Подобный сдвиг, к тому же, не гарантирует стабильности мировой системе, а напротив, вводит ее в турбулентность, где нет явного “мирового лидера”, принимающего на себя ответственность за общее благо.
История Германии начала XX века здесь очень поучительна. Тогда Германия была динамичнее, научно более продвинутой по сравнению с многими, но ее взлет привёл к двум опустошительным войнам и разрухе, из которой вышел не “германский мир”, а совершенно новый расклад сил – с США и СССР, ООН, деколонизацией и т.д. Аналогично, сегодняшний напор Китая сопровождается ломкой старых институтов: ВТО парализована, ООН расколота между западным и восточным лагерями. В итоге мы идём к новому мироустройству – но оно может оказаться не китайским по духу, а гибридным или вовсе непредсказуемым. Вектор развития будет зависеть от того, какие социальные силы возьмут верх в период перехода: прогрессивные (ведущие к более равноправному миру) или реакционные (ведущие к авторитарно-корпоративному мракобесию). В таком свете Китай – лишь один из игроков этой драмы, мощный, но не всемогущий. Он ускоряет конец Pax Americana, но не гарантирует Pax Sinica.
Сейчас идут постоянные разговоры о вероятности “постгегемонистского мира”, где вообще не будет единого лидера, а установится своего рода коллективная гегемония или баланс (как после Венского конгресса 1815, но на глобальном уровне). В пользу этого говорит и взаимозависимость экономик: китайская и американская экономики сцеплены (Китай инвестировал резервы в американские облигации, Америка зависит от китайского импорта и производственных цепочек). “Развод” будет болезненным для обоих. Никто не выйдет без потерь, а значит, ни у кого не останется ресурсов на мировое господство. Более же реалистичен сценарий сети региональных центров и множества независимых акторов (корпораций, городов, организаций). Ирония истории в том, что коммунистический Китай может невольно стать могильщиком капитализма (как глобальной системы), хотя сам строил у себя капитализм с китайской спецификой.
Подведём итог: роль Китая как нового гегемона, мягко говоря, не предопределена. Скорее, Китай играет роль разрушителя старого порядка, но не конструктора нового. Подобно Германии 1914–1945, он может добиться реванша за “век унижений” и, тем самым, окончательно добить однополярный капиталистический мир – однако сам уже созданием нового всеохватного миропорядка заниматься не сможет. Это значит, что ответственность за формирование позитивной альтернативы ляжет не на одного гегемона, а на коллективные усилия множества акторов – стран, международных движений, городских агломераций, коалиций бизнесов и сообществ. Что, собственно, возвращает нас к предыдущему разделу: будущее за сетевой структурой, а не за очередной империей. Китай ускоряет наступление этого будущего, хотя, возможно, сам того не желая.
Глава 4: Посткапиталистические сценарии: от техно-феодализма до сетевой кооперации
Современный кризис позднего капитализма подпитывает дискуссии о возможных сценариях посткапиталистического будущего. В рамках мир-системного анализа выделяются два полярных сценария преемника капитализма. Первый – пессимистический – можно назвать технократическо-трансгуманистическим («техно-феодальным» по выражению Янниса Варуфакиса или по выражению А. Фурсова — гибридом “Хищника и Чужого”). Он подразумевает, что существующие тенденции концентрации власти и технологического контроля усилятся: мировая экономика эволюционирует в систему, где гигантские корпоративные структуры, опираясь на цифровые платформы, ИИ и биотехнологии, устанавливают жесткий контроль над населением и ресурсами. Некоторые наблюдатели уже полагают, что капитализм трансформируется в неофеодальный строй, управляемый цифровыми монополиями – «феодами» вроде глобальных платформ, в чьих экосистемах потребители и мелкие производители превращаются в полностью зависимых рабов и вассалов. Экономист (и бывший Министр Финансов Греции в правительстве Ципраса) Яннис Варуфакис, например, указывает, что цифровые централизованные платформы заменяют собой рынки, превращаясь в «цифровые феодалии», где горстка технократов контролирует данные, алгоритмы и распределение благ. В таком сценарии технология используется для усиления иерархий: возможности трансгуманизма (антропологический переход — генетические улучшения, киборгизация, продление жизни) станут привилегией элиты, в то время как широкие слои испытывают на себе технократический надзор (тотальная алгоритмическая оптимизация труда и потребления, система социального рейтинга и пр.), что внятно десять лет назад продемонстрировал кинохит “Элизиум”. Это мрачная перспектива «антиутопии развития», где цифровые технологии, переварив капиталистические товарно-денежные отношения, превращают капитал в чистую Власть, окончательно консервируя неравенство.
Второй сценарий – оптимистический, эгалитарный – связан с гипотезой о сетевом посткапитализме, основанном на распределённой экономической власти. Идея в том, что после кризиса глобального корпоративного капитализма может возникнуть децентрализованная система, где преобладают сети кооперации между относительно небольшими экономическими акторами. Такой исход соответствует надеждам, выраженным Дж. Арриги. Он предполагал, что XX век может завершиться не мировым господством одного центра, а переходом к иному мироустройству, куда вернется рыночная деятельность, а капитализм как власть узкой прослойки исчезнет. В своем видении Арриги описывал сценарий, при котором новая гегемония (например, Восточной Азии) не опирается на военную мощь и монополии, как уходящий капиталистический гегемон, и тем самым «капиталистический слой» над рынком отмирает. Рынок возродится уже как пространство горизонтального обмена, свободного от диктата олигархии. Проще говоря, это «мир капитала без капитализма» – глобальная экономика, где капиталовложения и предпринимательство продолжаются, но не концентрируются в руках немногих и не требуют постоянного насилия для поддержания порядка.
Как соотносятся эти сценарии с идеями Поланьи и Броделя? Положительный сценарий можно трактовать как новый виток «движения защиты общества»: в ответ на угрозу технократической антиутопии и разрушение среды обитания, человечество может сознательно реорганизовать экономику на принципах кооперации, локализации и социальной встроенности. Это означает возвращение экономики «на землю» – ближе к уровням, где действуют реальные производители и потребители, а не абстрактные финансовые потоки. Броделевская терминология здесь очень кстати: посткапиталистическое будущее в этом ключе – это торжество рынка над капиталом, то есть вытеснение монополистических надстроек и возвращение к множеству динамично взаимодействующих субъектов. Мелкие и средние предприятия, объединенные в сети, – естественная основа такого порядка, поскольку они разбивают монополии, распределяют блага более равномерно и лучше встраиваются в местные сообщества.
Поланьи, вероятно, также приветствовал бы подобную перспективу как новую «великую трансформацию», где экономические отношения снова служат социальным целям. В рамках сетевой экономики малых игроков рынки вновь становятся «встроенными» в общество: предприятия взаимосвязаны с местными сообществами и государством, выступающим арбитром и партнером, а не слугой крупного бизнеса. Это противопоставляется как прежней неолиберальной модели (где государство отступает перед “рынком”, а на самом деле монополиями), так и гипотетической технократии (где государство/корпорации тотально отрицают рынок насаждая монополии). Иначе говоря, речь идет об экономической демократии, полицентричной структуре, где власть распределена между многими участниками.
Таким образом, гипотеза о посткапиталистическом будущем сетевых малых и средних предприятий (МСП) – это не утопия на пустом месте, а один из логичных исходов, вытекающих из анализа исторических закономерностей. На изломе циклов всегда возникали альтернативы: после «дикого» капитализма XIX века – кейнсианский порядок XX века; теперь же, после глобализации и неолиберализма, назревает новая альтернатива. Ниже мы рассмотрим, какой может быть модель экономики, основанной на горизонтальных и вертикальных сетях малых и средних предприятий (МСП), и почему она рассматривается как устойчивая альтернатива корпоратизму, трансгуманизму и технократии.
Глава 5: Человек как объект присвоения в технократическом трансгуманизме
Классические формы эксплуатации – рабство, феодализм, капитализм – вовлекали человека во внешний процесс присвоения, но не посягали напрямую на его внутреннюю сущность. В рабстве владелец распоряжался телом раба как своей собственностью; в феодализме сеньор закрепощал труд крестьянина, но не саму его душу; в капитализме предприниматель покупает рабочую силу, извлекая прибавочную стоимость из труда наёмного работника. Однако в техно-трансгуманистических структурах будущего границы отчуждения радикально расширяются: объектом присвоения становится сам человек – его сознание, тело, данные и способности. Здесь речь не о буквальном рабстве или новом крепостничестве, а о более глубоком подчинении, когда отчуждается внутренний мир личности.
Современные практики «капитализма слежки» (термин Ш. Зубофф) уже предвосхищают эту тенденцию. Если индустриальный капитализм извлекал прибыль из эксплуатации природных ресурсов и труда, то капитализм цифровой эпохи наживается на захвате и обработке данных о поведении людей. Цифровые платформы «бесплатно» предоставляют услуги, взамен незаметно присваивая информацию о мыслях, предпочтениях и действиях пользователей. Для таких компаний человек превращается лишь в придаток данных – источник «поведенческого сырья» для алгоритмов, иными словами, в продукт на продажу рекламодателям. Уже сейчас все наши онлайн-активности – работа, общение, отдых – регистрируются и анализируются корпорациями ради выгоды. Люди добровольно выносят значимую часть своего сознания во внешний цифровой простор (социальные сети, виртуальные аватары), передавая контроль над этой информацией третьим лицам.
Трансгуманизм лишь усиливает эту динамику. Идеологи трансгуманизма провозглашают расширение природы человека с помощью технологий – от генетических модификаций до прямого нейроинтерфейса мозг–компьютер. Но если подобные технологии будут находиться под контролем корпоративно-технократических элит, возникает опасность «невиданного отчуждения»: когда не только рабочее время или навыки человека принадлежат капиталу, а его тело и мозг напрямую включены в процесс эксплуатации. Исследователи уже вводят понятие «нейрокапитализма» – уклада, в котором нейротехнологии позволяют собирать и монетизировать нейронные данные, фактически извлекая прибыль из мыслей и эмоций людей. Инвазивные интерфейсы (например, импланты в мозге) способны дать компаниям доступ к самым интимным мыслям, открывая возможность манипулировать сознанием в коммерческих целях. Таким образом, происходит отчуждение внутреннего «Я»: граница частной психической жизни размывается, и человеческая индивидуальность становится ресурсом.
Важно подчеркнуть: этот новый строй не сводится к привычным терминам эксплуатации. Формально люди остаются «свободными» – они сами соглашаются на установку приложений, ношение датчиков, улучшение тела и разума технологиями. Однако такая свобода обманчива. Если при капитализме, по выражению Маркса, прибыль возникает из присвоения чужого прибавочного труда, то при посткапиталистическом техно-укладе источником прибыли становится сам человек целиком – его биология, психика, социальное поведение. Это качественно более радикальная форма подчинения, когда Власть проникает внутрь личности. Некоторые исследователи сравнивают подобное проникновение с тоталитарным контролем: Зубофф, например, проводит параллель между «инструментарианской» властью корпораций и тоталитаризмом, отмечая, что первая стремится к тотальному надзору над личностью, хотя и исходит не от государства, а от частных компаний. Происходит то, что Карл Поланьи назвал бы последней стадией фиктивного товарного обращения: когда не только труд, но и сама человеческая жизнь и сознание обращаются на рынок как товары, общество рискует пережить глубочайший кризис социального порядка. Поланьи предупреждал, что превращение труда, земли (природы) и денег в фиктивные товары чревато разрушением общества, вызывая ответную реакцию самозащиты общества. В нашем случае на кон поставлено еще больше – человеческая душа, превращенная в товар. Вероятно, именно поэтому уже зарождаются ответные тенденции – требования цифрового суверенитета, движения за права на приватность, этические нормы для ИИ. Они представляют собой ту самую «самозащиту общества», о которой писал Поланьи, – попытку ограничить тотальное отчуждение человеческого нутра ради сохранения человеческого в человеке.
Глава 6: Отмирание государства и цифровая автономия сетей
Если в новых технократических системах объектом власти становится сам человек, то вопросом становится: а что происходит с традиционным институтом власти – государством? Государство в его классическом понимании – как институт публичной политической власти в рамках национально-территориальной юрисдикции – складывалось и функционировало в тесной связке с капиталистической мировой системой (как показали Бродель и Валлерстайн). Однако современные тенденции указывают на возможный закат роли государства в привычном виде, особенно по мере того как сетевая структура экономики замещает иерархию национальных экономик1
Во-первых, глобальные цифровые платформы уже сейчас обладают мощью, сопоставимой или превосходящей многие государства. Пять крупнейших технологических корпораций – Apple, Amazon, Google, Facebook (Meta) и Microsoft – распоряжаются ресурсами (данными, капиталом, аудиторией) в масштабах, недоступных большинству национальных правительств. Обозреватели отмечают, что эти «пятеро гигантов» превратились «скорее в правительства, чем в компании», учитывая объем финансов и степень влияния на общество. Они устанавливают собственные «правила игры» – от стандартов коммуникации и цензуры контента до quasi-валют и платежных сервисов – фактически выполняя некоторые функции, ранее принадлежавшие государству. Показательный пример: в 2021 г. частная платформа (Twitter) смогла заблокировать аккаунт действующего главы государства, продемонстрировав, что власть над публичным дискурсом больше не монополия избранных чиновников. Как метко выразился один аналитик, социальные сети сегодня «строят не просто бизнесы, а целые цифровые страны», где миллиарды «граждан»-пользователей подчиняются правилам, установленным корпорациями.
Во-вторых, возникает феномен автономных цифровых сообществ, претендующих на часть суверенных прерогатив. Это и сообщества с открытым исходным кодом, самостоятельно принимающие решения, и децентрализованные автономные организации (DAO) на базе блокчейна, функционирующие без централизованного руководства. Некоторые DAO уже переходят из онлайна в офлайн: так, в 2021 году одна такая организация приобрела 40 акров земли в штате Вайоминг, чтобы заложить основу города, управляемого блокчейном. Техно-утописты вроде Баладжи Сриянивасана идут еще дальше, предлагая концепцию «сетевого государства» – сообщества, зарождающиеся в облаке (в интернете) на основе общей идеи или цели, а затем материализующиеся в виде распределенных поселений, связанных инфраструктурно и управляющихся через цифровые инструменты. По его замыслу, множество таких сетевых микрогосударств со временем могут обрести дипломатическое признание и даже образовать новый мировой порядок вместо традиционной системы национальных государств. Фантастично? Отчасти. Но появление криптовалют, не зависящих от государственных центробанков, и прецеденты типа эстонской программы электронного резидентства (позволяющей фактически «подключиться» к государственным услугам чужой страны через интернет) говорят о зарождении трансграничных структур, конкурирующих с национальными институтами.
В-третьих, платформенная технократия сама по себе подрывает роль публичной власти. Если экономика все более основывается на частных платформах (Uber, Amazon, Google и т.д.), которые устанавливают нормы для рынков труда, торговли, информации, то публичное регулирование отступает на второй план. Государство зачастую не успевает или не решается контролировать цифровых гигантов – наоборот, оно нередко само прибегает к их услугам (например, для слежки, обработки больших данных). Возникает симбиоз крупного технологического бизнеса и государственных структур – «партнёрство», в котором, как отмечает Зубофф, границы между корпоративным и государственным надзором размываются. Итог – рост того, что некоторые исследователи называют «частной надгосударственной властью»: корпорации де-факто получают суверенные функции без демократического контроля и вопреки общественным интересам (как-то сама собой внезапно всплывает вся история с мессенджером МАХ в нашем Богохранимом Отечестве — прямо “по живому”… авт.).
Наконец, в самих теориях о будущем появляются тезисы об «отмирании государства». Интересно, что этот марксистский термин сегодня употребляют и в либертарианско-технократических кругах, мечтающих заменить бюрократию алгоритмами. Ещё в 1930-е в рамках движения Technocracy Inc. предлагалась модель «Техната» – союз североамериканских стран под управлением инженеров, функционирующий как единая производственно-сбытовая система без денег, без политиков и финансистов. То была утопия своей эпохи, но ныне, с развитием информационных технологий, часть этих идей обрела новую жизнь — попытки именно ее воплощения мы сейчас наблюдаем в американском истеблишменте (И. Маск — внук одного из основателей Техната). В «технократическом» сценарии общество управляется не избранными представителями, а экспертами и программами: налогообложение заменяется алгоритмическим распределением ресурсов, законы – смарт-контрактами, а репрессивный аппарат – тотальным цифровым контролем. Государство как отдельное явление растворяется, сливаясь с корпоративно-сетевым управлением.
Подобное будущее может иметь разные обличья. В позитивном варианте – это эгалитарный мир, где власть формируется сообществами, интегрированными в горизонтально-вертикальные сети, где люди самоорганизуются в сети по интересам и/или географически, общие правила обеспечиваются прозрачными протоколами, а цифровые системы принадлежат этим сообществам, в которых управление строится на консенсусных принципах “один участник — один голос” (например, “Кооперативная Экономика”). В негативном – это корпоратократия, где вместо парламентов и правительств планетой правит горстка IT-концернов, подкрепленных силой частных «цифровых армий» безопасности (Технат).
В любом случае традиционное государство Вестфальской системы – национальный суверен с монополией на принуждение внутри определенных границ – сталкивается с перспективой утраты своей ведущей роли. История показывает, что уже не раз происходил перенос центра власти: от городов-государств эпохи Возрождения к национальным монархиям, от них – к империям, затем к национальным республикам ХХ века. Теперь на горизонте – власть сетевых структур, иногда называемая «глобальным средневековьем», где одновременно существуют и конкурируют разные центры – государства, корпорации, городские агломерации, виртуальные сообщества. Валлерстайн и другие мир-системные аналитики писали о наступлении эпохи «перехода», когда старая система (капиталистическая мироэкономика с национальными государствами) вступит в фазу хаоса и преобразится во что-то новое и пока неизвестное. Вероятно, что отмирание государства в нынешнем виде – не аномалия, а часть этого глобального перехода.
Глава 7: Капитал как власть: от денег к интеллектуальной собственности и платформам
Одно из ключевых изменений в посткапиталистической сетевой экономике – преобразование самого понятия капитала. Традиционно под капиталом понимались прежде всего деньги, вложенные в производство с целью получения прибыли, а также материальные средства производства (фабрики, машины). В цифровую эпоху наблюдается сдвиг: капитал все меньше тождественен деньгам и физическим активам, его сущность смещается в сферу неосязаемых продуктов разума и контроля над инфраструктурой. Проще говоря, капитал все более принимает форму знания и власти.
Статистика корпоративного сектора наглядно демонстрирует эту тенденцию. Если в 1975 году значительная часть рыночной стоимости ведущих компаний мира приходилась на их материальные активы (здания, оборудование, запасы), то сегодня подавляющее богатство – это нематериальные активы. Согласно исследованиям, к 2020-м годам до 90% совокупной стоимости компаний S&P 500 составляют именно нематериальные компоненты: патенты, авторские права, программные коды, бренды, базы данных, алгоритмы. Иными словами, капитал превратился в интеллектуальную собственность. Фирмы типа Google или Facebook обладают относительно скромными осязаемыми активами, но их рыночная капитализация исчисляется триллионами благодаря невидимым активам – технологиям и накопленным сведениям о пользователях. Информация стала новой “нефтью” экономики, а алгоритмы – новыми фабриками, производящими стоимость.
При этом деньги как таковые утрачивают ореол главного богатства и превращаются скорее в утилитарный протокол, средство учета и обмена. Уже сейчас деньги во многом функционируют как цифровой код (на счетах, в транзакциях блокчейна при запуске CBDC), не имеющий самостоятельной ценности вне системы. В рамках концепций кооперативной цифровой экономики (например, изложенных в недавней статье на Coopenomics) деньги рассматриваются как «протокол доверия» – условный счетчик, фиксирующий вклад участников в общее дело. В идеале деньги становятся нейтральным инструментом, “смазкой” обмена, лишаясь фетишизированного статуса капитала. Это особенно видно на примере криптовалют и смарт-контрактов: там токен – просто запись в распределенном реестре, его ценность определяется только полезностью в сети. Согласно доктрине Кооперативной Экономики, “код рынка” будет буквально прописан в программных протоколах, гарантирующих справедливый и эквивалентный обмен без посредников-банков.
Тем временем реальная власть и капитал стягиваются в одно целое. Ещё Бродель отмечал, что на верхнем этаже мировой экономики капитал всегда стремился слиться с властью государства, чтобы обеспечить себе монополию. Ныне мы видим новую форму такого слияния: контроль над критической инфраструктурой и потоками информации стал решающим фактором капиталистического господства. Владение ключевой платформой – по сути, новой инфраструктурой общества – дает ее собственнику чистую власть распоряжаться целыми отраслями и сообществами. Например, Amazon контролирует инфраструктуру облачных вычислений и глобальной онлайн-торговли; Google – инфраструктуру знаний и информации; Facebook (Meta) – инфраструктуру социальных связей. Эти корпорации обладают, по известному выражению, «властью как у правительств», влияя на демократические процессы, общественное мнение и поведение масс. Таким образом, капитал трансформируется в прямую власть – способность навязывать свою волю другим участникам системы без прямого эквивалентного обмена.
Особую роль в новом капитале играет алгоритмическая власть. Алгоритмы крупных платформ выступают своего рода регуляторами рынка: поисковый алгоритм Google решает, какая информация станет видимой, а какая нет; алгоритмы социальных сетей формируют повестку дня и даже эмоциональное состояние пользователей; алгоритмические торговые системы на финансовых рынках двигают цены быстрее, чем успеют вмешаться люди. Владельцы этих алгоритмов имеют привилегированный доступ к инфраструктуре и данным, недоступный обычным игрокам – это и есть новая рента. Например, обладая горой данных о миллиардах поисковых запросов, Google тренирует ИИ-модели, улучшая сервисы и еще больше укрепляя свое доминирование. Конкурент, не имеющий такого “капитала данных”, не в состоянии вступить в игру. Возникает эффект платформенной монополии: «победитель получает всё».
Таким образом, в посткапиталистической цифровой экономике деньги и товарная масса отходят на второй план, а во главу угла становятся продукты интеллекта и организационные структуры. Капитал приобретает вид сетей и экосистем: кто контролирует платформу – контролирует и потоки стоимости. Можно сказать, что реализовалось наблюдение К. Маркса о стремлении капитала к «околдованной» способности самовозрастать, только вместо мистического свойства денег теперь эту способность обеспечивает технологическое господство. В итоге новая форма капитала – это капитал-сеть, капитал-алгоритм. Его накопление происходит не через расширение фабрик, а через расширение сфер влияния платформы, не через сбережение денег, а через накопление прав на интеллектуальную собственность и данных о пользователях. В экономике будущего наиболее успешными будут не те акторы, кто скопил горы денег, а те, кто сумел встроиться в необходимые всем сети доверия и обмена – будь то глобальная информационная платформа или кооперативное сообщество с собственной инфраструктурой.
Отметим, что подобное понимание капитала развивается и в альтернативных концепциях, например, в упомянутой статье Coopenomics говорится о «капитализации будущего» через кооперативное владение кодом и данными. То есть, даже в кооперативной парадигме интеллектуальный продукт (новое знание, изобретение, технология) рассматривается как главный ресурс, подлежащий общественному присвоению и совместному инвестированию. Разница лишь в том, что в кооперативной модели предлагается коллективная собственность на такие ресурсы (общий код, открытые патенты, распределенные реестры), а не частно-монопольная, как уже в зародившемся технокапитализме. Но суть остаётся: будущий капитал нематериален, он весь в плоскости идей, информации, алгоритмов и социального доверия.
Глава 8: Новая цель экономики: от прибыли к общественному благу
Если меняется природа капитала, то должна измениться и цель экономической деятельности. В капиталистической системе цель производства и инвестиций – получение прибыли. Маркс определил прибыль как присвоение прибавочной стоимости, созданной трудом наёмных работников сверх оплаты их рабочей силы. Проще говоря, капиталистическая прибыль – это то, что капитал забирает себе, хотя сам не произвёл. Именно жажда прибыли двигала капитализм вперед, стимулируя бесконечное расширение, конкуренцию и инновации, одновременно порождая эксплуатацию, неравенство и кризисы.
Логично, что посткапиталистическая экономика не может сохранять прежний принцип прибыли как высшее целеполагание. Если мотивом остается максимизация прибыли любой ценой, то как ни меняй оболочку (хоть добавь технологий, хоть введи безусловный базовый доход) – по сути это будет тот же капитализм, только в новом издании. Как заметил один критик, “капитализм без капиталистов” невозможен – если сохраняется императив прибыли, найдутся и стяжатели этой прибыли. Поэтому необходим сдвиг целеполагания: вместо прибыли как самоцели – ориентир на общественное благо, солидарность и устойчивое развитие.
Эта идея, надо сказать, не нова. Ещё утописты XIX века и основатели кооперативного движения призывали заменить принцип личной выгоды принципом общего интереса. К.Поланьи, анализируя Великую депрессию, писал о том, что рыночное общество должно быть “встроено” в социальные рамки, иначе оно разрушит человеческие и природные основы своего существования. Сегодня эти мысли возвращаются на новом витке: от движения Economy for Common Good в Европе до концепции благополучия (well-being economy) или “экономики пончика” Кейт Роуэрт – всюду звучит призыв подчинить экономику целям человеческого развития, а не наоборот.
Конкретно это означает переосмысление прибыли. В посткапиталистической системе прибыль перестает быть мерилом успеха. На уровне предприятия вместо максимизации прибыли акционеров – максимизация ценности для всех стейкхолдеров (работников, потребителей, общества, природы). На уровне экономики в целом – замена ВВП как фетиша более комплексными показателями (как тут не вспомнить наработки Побиска Кузнецова!). Цель производства – удовлетворение потребностей при улучшении качества жизни и сохранении экосистем, а не бесконечное накопление капитала.
Уже есть примеры крупных организаций, работающих по этим принципам. Швейцарский кооператив Migros – одно из крупнейших розничных предприятий страны – с момента основания взял курс на общественно ориентированную деятельность. Его основатель Готтлиб Дутвейлер еще в середине XX века сформулировал “15 тезисов” Migros, среди которых: «ставить людей в центр экономики» и «ставить общий интерес выше интересов кооператива». Migros не выплачивает дивиденды вообще (то есть, прибыль не идет в карманы частных акционеров); если операционная рентабельность превышает 5%, компания обязана снижать цены для покупателей. Более того, Migros добровольно отчисляет 1% своего оборота на финансирование социальных и культурных проектов – так называемый «культурный процент». На эти средства строятся школы, финансируются программы обучения, поддерживаются культурные инициативы. Фактически Migros превратил прибыль из самоцели в инструмент общественного развития: сверхдоходы направляются на благо членов кооператива и общества в целом, а не на вознаграждение капитала. Подобные принципы позволяют на практике реализовать идею, что экономика должна служить человеку. Migros, принадлежащий более 2 миллионам членов-пайщиков, демонстрирует, что крупный бизнес может быть успешным без классического акционерного капитализма, «супермаркет, принадлежащий своим покупателям», где выгоды распределяются коллективно.
Другой пример – концепция безпроцентной кооперации. В традиционном капитализме важнейшим источником прибыли является ссудный процент (процент на капитал). Его критиковали еще средневековые схоласты, дораскольные православные и исламские экономисты, называя ростовщичество социальным злом. Некоторые современные критики именуют ссудный процент «вторичным родовым грехом капитализма» – механизмом, через который богатые автоматически богатеют, ничего не производя, за счет должников. Посткапиталистические модели предлагают отказаться от процента или резко ограничить его роль. Например, в Швейцарии с 1930-х годов действует система WIR – кооперативный расчётный круг предприятий, использующих свою вспомогательную валюту WIR. Эта система изначально строилась на принципе процентного нуля: деньги WIR выпускаются как клиринговые единицы, не приносящие процента при хранении. Участники (а это сегодня ~50 тысяч малых и средних фирм) могут брать друг у друга беспроцентные товары в кредит, рассчитываясь WIR-франками, что стимулирует обмен и не загоняет бизнес в долги перед банками. WIR устойчиво функционирует уже почти 90 лет, переживая экономические кризисы лучше официальной денежной системы (в годы рецессий объёмы торговли в WIR росли, смягчая падение спроса и как “вспомогательная” валюта, поддерживая швейцарский франк). Философски это тоже пример смены цели: финансы перестают быть отраслью наживы и превращаются в служебный механизм, поддерживающий реальную экономику. Многие кооперативы и общинные банки по миру работают без прибыли или с ограниченной нормой прибыли, направляя её на развитие своих сообществ.
Итак, посткапитализм требует сменить главный вопрос с «сколько прибыли?» на «какова общественная отдача?». Прибыль из господина должна стать слугой. В центре угла – ценности солидарности, справедливости, устойчивости. Экономическая наука заговорила о «экономике благосостояния для всех», «циркулярной экономике» и прочих моделях, где выигрывает не узкий слой бенефициаров, а общество и природа. Конечно, переход к такой системе – колоссальный вызов, ведь он требует не только изменений в правилах, но и в массовом сознании, отказа от глубоко укорененной психологией капитализма установки на личный материальный успех как мерило прогресса. Но без этой ценностной революции все прочие новшества – будь то высокие технологии или кооперативные сети – рискуют быть подчинены старой цели максимизации прибыли, тем самым воспроизводя пороки капитализма в новых формах. Как заметил Маркс, капитал, даже меняя обличья, сохраняет свою «окуенную способность к саморасширению», если ему позволять. Значит, общество должно установить новые ограничители – юридические, этические, культурные – чтобы цель экономической деятельности сместилась с бесконечного роста прибыли на восполнение человеческих потребностей и поддержание жизни на планете.
Глава 9: Сетевые структуры малых акторов: закономерность исторического цикла
Рассмотренные трансформации – технологизация, падение роли государства, превращение капитала в сеть, смена целевых ориентиров – наталкивают на очевидный вывод, что мы находимся на пороге новой миросистемной структуры.
Наиболее вероятно, что следующий “фронтир” – кооперативная сеть, где рост измеряется не объемом продаж, а ростом благополучия. В противном случае система грозит циклически коллапсировать (как описывал Арриги, финансовая экспансия без подкрепления реальным ростом ведет к кризису доверия и хаосу). Сетевые объединения малых и средних акторов могут стать тем “новым фактором”, который стабилизирует систему на других принципах – принципах распределения и локальной устойчивости вместо тотальной централизации.
С экономической точки зрения, сетевые структуры малых и средних акторов оказываются гораздо более устойчивыми к кризисам. Децентрализация означает отсутствие единичной точки отказа: крах одного узла не обрушит всю систему. Локальные цепочки поставок и кооперативы менее уязвимы к глобальным шокам, чем монолитные транснациональные корпорации. Пандемия COVID-19 подчеркнула эту мысль: регионы и страны, имевшие более автономные местные производственные сети, справлялись лучше, чем те, кто зависел от глобальных корпораций just-in-time. Следовательно, переход миросистемы к сетям – это не случайное отклонение, а адаптивный ответ системы на накопленные дисбалансы, логичное завершение цикла гегемоний, когда вместо смены вершины пирамиды меняется сама архитектура – пирамида распадается на сеть.
Интересно, что уже сейчас существуют прототипы такой сетевой постгегемонистской экономики. Помимо упомянутых Migros и WIR в Швейцарии, можно назвать, например, кооператив Mondragon в Стране Басков – это федерация из сотен малых и средних предприятий, совместно владеющих корпоративным центром, банком, университетом. Mondragon обеспечивает работой ~80 тысяч человек, успешно конкурируя на глобальных рынках, оставаясь при этом системой без внешних акционеров: все предприятия принадлежат работникам-кооператорам. Это пример, как децентрализованная сеть предприятий может интегрироваться для взаимной выгоды. Другой пример – региональные валютно-торговые системы, подобные WIR: в одной только Швейцарии через WIR-банк ежегодно проходят сделки на сумму свыше 1 млрд франков во внутренней валюте, при этом участники пользуются взаимным кредитом под 0%. По сути, тысячи небольших фирм создали свою экономическую миросистему, функционирующую внутри (и параллельно) общей экономике, но по другим правилам – правилам сотрудничества и взаимопомощи. Такие сети трудно назвать “социализмом” в классическом понимании, но это уже и не капитализм – скорее кооперативный строй, где нет единого гегемона, а есть множество связанных договорными отношениями субъектов.
Примеры Migros и WIR демонстрируют жизнеспособные альтернативы в рамках существующего мира, которые могут стать прообразами пост-капиталистических сетевых структур. Они философски выверены – основаны на приоритете человека и доверия над прибылью и конкуренцией. Они устойчивы – прошли проверку временем. Они масштабируемы – принципы кооперации универсальны и могут адаптироваться с помощью новых технологий (например, представить будущий “цифровой WIR” на глобальном блокчейне или “умный Migros”, где каждый участник через приложение голосует за политику компании). Да, пока это островки альтернативы в океане глобального капитала. Но по мере того, как старые институты переживают кризис доверия и отмирают, именно такие модели выходят на авансцену.
Исторические циклы не гарантируют автоматической победы добра – новый строй может деградировать и в цифровой феодализм, и в корпоратократию, как и написано выше. Но наличие реальных успешных кооперативов – это надежда, что человечество сумеет выбрать правильный путь. Как сказал Дутвейлер, «Экономика должна служить человеку, а не человек экономике». Посткапитализм, основанный на сетях сотрудничества, воплотит эту мысль в систему, где богатство – в связях между людьми, а не в отчужденных активах, и цель – в качестве жизни, а не в бесконечном приращении капитала. А реализовать такое будущее помогут уже знакомые нам прототипы, требующие лишь нашего разумения и воли, чтобы стать мэйнстримом завтрашнего дня.
Глава 10: Сетевая интеграция малых и средних акторов: горизонтальные и вертикальные связи
Исходя из вышеизложенного, попробуем представить модель сетевой экономики малых и средних акторов — предприятий (МСП) — для России. Прежде всего – это комбинация горизонтальной кооперации и вертикальной координации между большим количеством относительно небольших независимых экономических субъектов. В отличие от корпоративного капитализма, где иерархия жестко централизована (материнская корпорация диктует филиалам и подрядчикам) либо, где рынки разобщены и антагонистичны, сетевая модель предполагает устойчивые партнерские связи по всей цепочке создания стоимости.
Горизонтальная интеграция означает объединение усилий на одном уровне производства или в смежных отраслях. Множество малых фирм могут формировать кластеры, консорциумы, кооперативы, обмениваясь знаниями, совместно инвестируя в инфраструктуру, проводя общие научно-исследовательские работы или выходя на рынок коллективно. В таких сетях конкуренция замещается кооперацией: организации могут соперничать в отдельных нишах, но сотрудничать в решении общих задач (стандартизация, обучение кадров, лоббирование интересов сектора). Исторический пример – промышленные округа в Северной Италии, где сотни мелких семейных фабрик в рамках одного региона негласно специализировались и координировались, создавая суммарно конкурентоспособный продукт на мировом рынке. Кластеры, полностью состоящие из МСП, продемонстрировали способность достигать промышленного расцвета – так, экономический бум в регионах Северо-Восточной Италии во второй половине XX века во многом опирался на сети малых предприятий, образующих «питательную среду» друг для друга.
Вертикальная интеграция в контексте сетевой модели – это выстраивание цепочек кооперации «снизу вверх», когда малые предприятия становятся звеньями единого производственного процесса, сохраняя свою юридическую и управленческую независимость. В традиционном корпоративном мире вертикальная интеграция достигается посредством поглощений и внутренних подразделений; в сети же она реализуется через долгосрочные партнерские отношения между независимыми производителями, поставщиками, дистрибьюторами и т.д. Яркий пример – японская система кейрецу, особенно вокруг компании Toyota. Toyota создала разветвленную сеть из сотен поставщиков, многие из которых – средние и небольшие фирмы, специализированные на отдельных компонентах. Они работают в плотной связке с автоконцерном и друг с другом, иногда владея небольшими долями акций друг друга для упрочения союза. При этом все остаются самостоятельными, что стимулирует их предпринимательскую инициативу. Такая «головная коалиция» (буквально перевод слова keiretsu – «безглавое объединение») позволяет добиться эффективности сопоставимой с единым гигантом, но без бюрократической громоздкости и с большей гибкостью перед изменениями рынка. В результате японские цепочки поставок слывут одними из самых устойчивых и инновационных в мире, а принципы тесной кооперации с поставщиками (вплоть до совместной разработки и обмена инженерами) стали образцом для глобальной автоиндустрии.
Горизонтальные и вертикальные связи не взаимоисключают, а дополняют друг друга. Сети МСП часто многомерны: например, группа малых заводов образует кооператив (горизонталь) для совместного сбыта продукции, и одновременно каждый из них интегрирован в вертикальную цепочку с крупным партнером, получая заказы как субподрядчик. Главное, что отличает эту модель – отсутствие абсолютной доминации одного центра. Роли распределены, и хотя могут быть ведущие участники (например, системообразующее предприятие или опорный государственный институт), отношения строятся на взаимной выгоде и стабильности, а не на поглощении или принуждении.
Преимущества такой модели:
- Динамичность и инновационность. Мелкие и средние фирмы, как правило, ближе к технологиям и нишевым знаниям, быстрее адаптируются. Их сеть обеспечивает быстрый обмен информацией и идеями. Новшество, появившееся в одной малой компании, через кооперативные связи может быстро распространиться на другие. В вертикальной цепочке крупная или государственная компания может передавать запросы на инновации вниз по сети, а малые – предлагать креативные решения. Исторический кейс – в кластерной кооперации АвтоВАЗа в 1990-е группа небольших предприятий совместно с инженерным центром разработала электронную систему управления двигателем Евро-1 всего за несколько месяцев; российская система оказалась на 35% дешевле импортных аналогов, и многие малыши-участники выросли в солидные фирмы после этого успеха.
- Устойчивость и резистентность. Сеть из множества узлов более живуча, чем монолит: выход из строя одного узла компенсируется перестройкой связей. Если банкротится один поставщик, его нишу могут занять другие участники сети – в отличие от ситуации, когда вся цепочка под единой корпорацией рушится целиком. Кроме того, МСП более географически распределены; локальные сети меньше зависят от глобальных шоков. В кооперативных структурах также имеются внутренние страховочные механизмы – например, в кооперативном гиганте Mondragon (Испания) при финансовой несостоятельности одного завода работников переводят на другие предприятия кооператива, минимизируя социальные потери.
- Социальная включенность и равномерное развитие. Малые и средние предприятия традиционно более укоренены в местных сообществах: владельцы и сотрудники живут в тех же городах, их интересы теснее связаны с благополучием региона. Сетевая структура распределяет материальные блага и власть между множеством субъектов, нивелируя социальное неравенство. Это способствует формированию среднего класса и инновационных рабочих, что исторически является основой стабильности. Кроме того, горизонтальные объединения (кластерные ассоциации, кооперативы) позволяют малым игрокам вести диалог с государством и крупными корпорациями на равных условиях, вырабатывая совместные стратегии развития региона.
- Экологическая и гуманитарная устойчивость. Децентрализация производства ближе к потребителю сокращает издержки транспортировки, стимулирует учёт местных экологических ограничений. Множество мелких предпринимателей в сети, конкурируя, менее склонны «выдавливать» максимум за счёт экстерналий, чем монополия, которая может перенести производство в зону без экологических норм. Кроме того, технологии в сетевой модели служат людям, а не наоборот: вместо тотальной автоматизации ради сокращения персонала, МСП осваивают новые технологии для повышения качества продукции и условий труда, сохраняя значимость человеческого капитала. (В кооперативах типа Mondragon внедрение роботов сопровождается переподготовкой работников, а не их увольнением – цель в том, чтобы технологии дополняли человека, а не вытесняли.)
Конечно, модель сети МСП не лишена вызовов. Ее функционирование опирается на высокий уровень доверия между участниками, на наличие институтов координации (например, общепринятые стандарты, арбитраж конфликтов, совместные финансирующие организации). Необходим баланс между конкуренцией и солидарностью. Зачастую требуется роль государства или иных внешних акторов как «честного брокера»: например, региональные власти могут поддерживать создание кластеров, университеты и технопарки – объединять предприятия и общества вокруг новых знаний. Тем не менее, опыт многих стран, да и собственная российская история успеха горизонтальной экономической структуры старообрядцев (об этом ниже), показывают, что сетевые структуры не только жизнеспособны, но и способны вытеснять классический корпоративный формат.
Сравнение с корпоративным капитализмом и технократическими моделями
В чём же принципиальное отличие сетевой экономики МСП от господствующего сегодня корпоративного капитализма и от гипотетических технократических трансгуманистических систем? Различия пролегают по нескольким ключевым измерениям:
- Концентрация власти vs. Распределение власти. Корпоративный капитализм эпохи глобализации – это всё большая концентрация экономической мощи в руках транснациональных конгломератов. Они обладают ресурсами, превосходящими целые государства, и могут диктовать условия поставщикам, работникам, потребителям. В технократическом сценарии эта концентрация достигает апогея: слияние корпораций с государственными и наднациональными структурами, контроль через цифровые системы. Напротив, сетевая модель деконцентрирует власть: множество субъектов, связанных партнерством, ограничивают друг друга. Это, другими словами, анти-капитализм – вместо экономического абсолютизма мы имеем своего рода экономическую федерацию ( кооперативов и компаний в них), где решения рождаются во взаимодействии и коллегиально.
- Иерархия vs. Гетерархия. Классическая корпорация – жёсткая иерархия: центр принимает решения, периферия исполняет. Это позволяет быстро мобилизовать ресурсы, но, как правило, подавляет инициативу снизу. Технократическая утопия предполагает еще более жесткую иерархию, только заменяющую часть управленцев алгоритмами – своего рода «алгоритмический менеджмент», где люди на нижних уровнях просто следуют предписаниям ИИ. В сетевой системе преобладает гетерархия – многополярное управление. Конечно, лидеры и координаторы есть, но их власть опирается на согласие партнеров и участников, а не на формальную субординацию. Решения принимаются децентрализованно, что позволяет лучше учитывать местную информацию и экспертизу. Современные информационные технологии (интернет-коммуникации, блокчейн, платформенные кооперативы) могут сыграть позитивную роль: не для тотального контроля, а для облегчения самоорганизации множества агентов (например, цифровые платформы, принадлежащие самим участникам рынка, могут координировать цепочки поставок и спроса, не создавая монопольного владельца).
- Мотивация: максимизация прибыли vs. удовлетворение материальных и иных потребностей общества. В крупной корпорации, особенно публичной, логика проста: максимизация прибыли акционеров. Все прочие цели подчинены этому императиву, который подкрепляется биржей, поглощениями и пр. В технократическом видении возможна даже утрата человеческой мотивации – решения могут приниматься «ради эффективности», определяемой узким кругом элиты или ИИ (например, в утопиях Силиконовой долины фигурируют системы, где ИИ управляет экономикой для оптимального роста, пренебрегая демократическим процессом). Сетевые объединения МСП чаще исповедуют множественность целей. Да, есть и коммерческие, но их участники – живые люди, для которых важно и качество жизни, и репутация в сообществе, и устойчивость предприятий. В кооперативах — субъектах МСП — открыто декларируется приоритет людей над капиталом. МСП, будучи ближе к потребителю, внимательнее относится к качеству, экологичности, отношениям с работниками – просто потому, что не обезличен. Таким образом, устойчивость – экономическая, социальная, экологическая – естественно вплетается в систему ценностей сетевой ( или кооперативной) экономики. Это не альтруизм, а вопрос долгосрочного выживания: сеть, которая эксплуатирует свой человеческий или природный фундамент, рано или поздно распадется.
- Роль государства: слуга капитала vs. партнер и арбитр. Неолиберальная эпоха воспитала государство-помощника крупных корпораций (через дерегуляцию, налоговые льготы, спасение банков в кризис) и одновременно минимизировала его функции социальной защиты. В технократическом варианте государство и вовсе может превратиться в менеджера по управлению населением в интересах техно-элиты или вообще исчезнуть. Напротив, для процветания сетевой системы необходимо активное, но не командно-контрольное государство. Его функции: обеспечение справедливых правил игры, антимонопольная политика (чтобы не дать одним участникам задавить других), инвестиции в общую инфраструктуру и науку, поддержка малых предприятий доступом к финансам и технологиям, стимулирование кооперации (через законодательство о кооперативах, гранты на кластерные проекты, платформы для диалога). Государство здесь выступает как партнер-советник и арбитр, гарантирующий, что «сетевая игра» идёт по честным правилам. Пример – Ростех совместно с Федеральной корпорацией по развитию МСП создал систему отбора и развития квалифицированных малых поставщиков, чтобы увеличить долю МСП в своих заказах, особенно по инновационной продукции. Руководство Ростеха отмечает, что сотрудничество с небольшими высокотехнологичными фирмами помогает крупным предприятиям повышать эффективность и конкурентоспособность. Этот пример иллюстрирует: государственные игроки могут (когда хотят) сознательно переходить от директивного стиля к модели экосистемы, где крупные и малые гармонично взаимосвязаны.
В итоговом сравнении, кооперативная экономика — сетевая модель МСП для России представляет собой попытку синтеза лучшего из двух миров: она сохраняет (а по большому счету — возрождает) инновационную энергию рынка и рынок вообще, мотивирует предпринимательство, но смягчает самые разрушительные эффекты капитализма в его либеральной ипостаси (к слову, фанатично воспринятые нашими элитами) через распределение власти и встроенность в социальные связи. Это, конечно, не автоматический процесс – необходимы политическая воля и массовые “антисистемные” движения (термин Валлерстайна) для перехода к такой системе.
Последние десятилетия дали ростки: движение за экономическую демократию, кооперативное движение, “зелёный” локализм, проекты типа экономики совместного пользования (в изначальном, некорпоративном смысле) и цифровые платформы, принадлежащие сообществам. Эти тенденции указывают, что общество ищет альтернативы нынешней уродливой форме присвоения, которая уже бьется в конвульсиях – и идеи Броделя, Поланьи, Валлерстайна, Арриги помогают теоретически обосновать и исторически вписать этот поиск.
Глава 11: А как же Россия в новом мире?
На фоне хаотизации в мире при переходе в пост-капиталистическую эпоху, очевидного распада миросистемы, ее трансформации в сетевые интегрированные структуры и усиливающейся борьбой не только за “место под солнцем”, но и для банального выживания, России необходимо найти или сформулировать собственный путь — явить миру “Русский проект”, который бы обладал собственной идентичностью, привлекательностью и универсализмом и, который бы обеспечил центростремительность.
Большая часть предлагаемых ныне в российском общественном дискурсе вариантов модернизации либо фрагментарны и призваны законсервировать власть теперешних элит посредством декларативных и косметических изменений (например, т.н. “Московский Консенсус”), либо на поверку оказываются планом встраивания в чужой проект на вторых или третьих ролях. Тут же необходим высокий уровень сознательного конструирования, идеологемы, которые бы учитывали и социальный запрос, и практики зашитые в когнитивном и культурном кодах России, и антитезу конкурирующих проектов построения новой миросистемы.
Экономист Олег Григорьев (вместе с М. Хазиным) указывал, что в рамках капиталистической миросистемы Россия обречена оставаться периферийным поставщиком сырья из-за недостаточно глубокой внутренней специализации производства. Действительно, доля России в глобальном разделении труда долгие годы была в сырьевых и базовых отраслях. Однако мировой кризис открывает окно возможностей: происходит ломка прежних правил, и страны с нестандартным потенциалом могут заявить о себе. Григорьев и Хазин указывали, что уникальным ресурсом России является опыт строительства социального государства – от советской системы планирования (и ее перспективных наработок под руководством П. Кузнецова — авт.) до современных институтов социальной защиты. Этот опыт мог бы лечь в основу нового проекта, условно называемого ими «Красным глобальным проектом». Смысл его не в возврате к старому коммунизму, а в синтезе лучших сторон социализма (ориентация на общественное благо, равенство, стратегическое планирование) с вызовами XXI века. Если Россия поднимет знамя такого проекта, она способна стать флагманом формирования нового мирового порядка, более справедливого и безопасного. Здесь звучит отголосок идей Валлерстайна о втором, эгалитарном исходе из структурного кризиса – кто-то должен предложить привлекательную модель посткапиталистической системы, чтобы она реализовалась.
Настоящий момент — критический. Его можно сравнить как раз с историческим периодом 17 века отечественной истории. Мы также пережили смуту (90е), пережили геополитическое поражение, нас (СССР) развалили, причем также при активной инициативе и содействии части элит, нам также как и в 17 веке насадили идеологический “раскол”, нас также как и в петровские времена развернули на Запад, “обезьянничая” капиталистические порядки “как у них”, выплеснув при этом самые неприглядные формы либерализма (чего стоит только догматическая упоротость Минфина и ЦБ — сродни бритью бород в петровские времена!). И снова на развилке — встраиваться в чужой проект или создавать свой. В конце 17 века Россию встроили в чужой, тем самым загнав Россию на периферию миросистемы, из которой она только на период в 70 лет смогла вырваться в рамках Советского проекта.
Приведенная выше сетевая модель удивительным образом органично вписывается в социальный запрос, соответствует когнитивному и культурному кодам России и, наконец, создает этот самый “Русский проект”. Чтобы это проиллюстрировать нужно окунуться в историю.
Раскол
Российское старообрядчество возникло в середине XVII века как протест против церковной реформы патриарха Никона, которая расколола Русскую православную церковь на сторонников реформ и их противников.
Что же стояло за церковной реформой Патриарха Никона и почему произошел раскол?
Россия в начале XVII века встала перед необходимостью модернизации для преодоления тяжелейших последствий геополитического поражения — не только Ливонской войны, но, главное — Смутного Времени и польской интервенции, которые почти развалили страну.
Модернизация общества, по мнению властных элит, требовала, своего рода “религиозной сознательности”, откуда и возник кружок “ревнителей благочестия”, в котором членами были царь Алексей Михайлович Романов, протопоп Аввакум и Патриарх Никон. Задачей “ревнителей” было каким-то образом переформатировать религиозную жизнь (средневековый человек был религиозен, а русский человек 17 века был по типу именно средневековым человеком), не трогая ее духовных внутренних основ, чтобы вычленить оттуда то, что считалось результатом Смутного Времени.
В качестве внешнеполитического приоритета, на протяжении XVI — начала XVII века в России вызревала концепция, которую часто называют «Константинопольским проектом». Смысл его состоял в следующем: На востоке у России был очень сильный геополитический противник – это Турция, под властью которой находились национальные религиозные меньшинства, прежде всего, православные греки, кровно заинтересованные в том, чтобы Россия их вызволила из турецкого ига. Россия, согласно концепции, должна военным образом перекроить карту Востока, завоевать Турцию или, по крайней мере, отвоевать большую европейскую часть Турции, освободить греков и, Русский Государь должен воссесть в Константинополе, защитив Константинопольскую Вселенскую Церковь и, тем самым, восстановить единство Второго и Третьего Рима. Эта концепция опиралась на известные слова старца Филофея о Третьем Риме и невозможности существования Четвертого.
Вот именно с проявлением «Константинопольского проекта», как внешнеполитического приоритета, задачи “ревнителей” по модернизации общества внезапно ускорились — решили быстренько привести Русскую Православную Церковь, по формальным признакам, в согласие с греческими правилами, а затем двинуться дальше на Восток, чтобы этот проект реализовать. Движимый политическими амбициями (видя себя в роли Филарета Никитича, но уже при Алексее Михайловиче), Никон рьяно принялся за дело.
Как пишет А.В. Пыжиков: “церковное православие как ось, вокруг которой строилась русская государственность и жизнь народа, не смогло выдержать надлома, произошедшего в течение второй половины XVII столетия. Реформа богослужения, предпринятая патриархом Никоном при мощной поддержке властей (а после опалы Никона, когда политические амбиции последнего преодолели все “красные линии”, Алексей Михайлович сам возглавил реформу, вполне себе “по-Петровски”, с размахом, ломая всех “через колено” — авт.), вызвала небывалые волнения, чем-то напоминающие Смутное Время с польско-литовской интервенцией начала века. Изменение религиозного обихода по греческим образцам вызвало неприятие у подавляющей части населения. Простые русские люди, не отягощенные, в отличие от верхов, имперскими амбициями (и “проектами” — авт.), отвергали навязывание подобных новшеств. Главная причина отторжения заключалась в том, что эти новшества расценивались как ущемление старины, попадающей под чуждую религиозную унификацию”.
Если бы перед Никоном (изначально, а потом перед Алексеем Михайловичем) была девственно нетронутая масса диких крестьян, которые были бы готовы принимать любые абсолютно нормативные действия церковной власти, то, может быть, такая штука и прокатила бы. Но перед ними, на самом деле, были люди, которые привыкли относиться к символам крайне трепетно и священно.
Современникам сложно понять религиозный менталитет российского общества 17 века. Кажется, ну что там такого? Ну, поменялся ритуал — это же просто форма, ну, троеперстие, вместо двоеперстия, и что тут такого? Тем не менее, в церковном ритуале зашит глубокий смысл. Он выполняет роль триггера социальных практик. Например, служба в церкви до реформ Никона представляла из себя, по сути, коллективный молебен с земными и великими земными поклонами. В этих земных поклонах, как объясняли еще древние византийские богословы, человек преклонялся к земле в знак своего происхождения от нее, тем самым проявляя смирение. В этом-то, кстати, и есть квинтэссенция духа крестьянской общины — коллективное действо и земля!
Никон же предложил их просто убрать, заменить так называемыми поясными поклонами, то есть, когда человек просто наклоняет голову или голову с плечами. Вроде бы, ну, было тяжело, стало полегче. На самом деле поясной поклон имеет совершенно другой смысл, он в культуре играет совершенно другую роль. Поясной поклон – это просто выражение благочестия и не более того. Тут никакого смирения нет и в помине.
Отдельная история двоеперстия и троеперстия. Первоначально христиане крестились просто рукой, как приведется, главным было изобразить на себе крест. В последствии – примерно во II веке н.э. возникло некое представление о том, что то, как рука при этом складывается, имеет некоторое значение. Постепенно сложилась традиция, которая была в Византии и на всем христианском востоке, а именно складывать два перста, обозначая две природы, два естества Христа: божественное и человеческое. Появление третьего перста, которое символизирует Троицу согласно поздних греческих традиций, навязанное Никоном, оказалось разрушительным, поскольку как бы демонстрировало, что вся предыдущая традиция была неправильной. А тут еще и Стоглавый собор 1551 года при самом Иване Грозном установил двоеперстие как единообразное крестное знамение для всей Русской Церкви, как раз, к слову, в противовес грекам и вследствие падения авторитета самой Константинопольской Вселенской церкви в XVI, ставшей ареной борьбы за власть между иезуитами и протестантами. А в 31-й главе Стоглава было совсем четко сказано: «Аще кто не знаменается двема персты, яко же и Христос, да будет проклят».
Кроме того, помимо изменений в ритуалах, никонианская реформа сопровождалась притоком церковных мигрантов на высшие должности в иерархии РПЦ — униатскими священниками из ныне украинских территорий, агрессивно насаждавшими “истинную веру” русскому люду. В отличие от элит, простые русские люди логично восприняли это как порабощение ересью.
А.И. Фурсов пишет: “С воцарением Романовых в русскую систему власти начали проникать чуждые элементы. Это было связано и с тем, каким путём Романовы пришли к власти; и с особенностями пребывания Филарета в плену, равно как и с более ранними его контактами с католиками; и с тем, какие силы способствовали победе Романовых. Однако ещё важнее церковная реформа Алексея – Никона, проведённая с подачи иезуитов при активном участии украинско-польских униатов. По сути это была «идеологическая», точнее, религиозная диверсия, которая, во-первых, отодвинула истинно русских православных (староверов) на задний план, сделала их гонимыми; во-вторых, десакрализовала и государственную власть, и саму церковь.”
Как известно, “Константинопольский проект” закончился пшиком. “Реформа Алексея – Никона была первым западноевропейским ударом по русскому религиозно-цивилизационному коду, по русской традиции” — продолжает А. И. Фурсов, “кстати, именно при Алексее необязательным стал посмертный постриг у Романовых. Реформа выдавила на окраину (в прямом и переносном смысле) русского общества активный социальный элемент, способный сопротивляться чужому и чуждому. Без церковной реформы середины XVII в. реформы Петра I едва ли были возможны: первая социокультурно и психологически готовила почву и пробивала стену для вторых”.
Петр самым радикальным и жестким образом развернулся на Запад (к слову, самый неудачный сценарий развития России на тот период). Православная церковь была редуцирована до абсолютного минимума: Петр убрал патриарха вообще, власть над церковью передал в руки светских чиновников, объявив, что он ориентируется на голландскую модель (как на гегемона тогдашней миросистемы). Он же и законодательно оформил взаимоотношения господствующей церкви и поверженной старой веры, походя дискриминировав ее адептов, сначала актом от 8 февраля 1716 года, который установил запись и двойное налоговое обложение раскольников, а потом указом от 16 октября 1720 года, тем самым юридически зафиксировав разделение двух ветвей православия не только по вероисповедальному, но и по социально-классовому признаку — “верхи” в господствующей церкви, а “низы” в староверии.
Помимо дискриминации по вероисповеданию, Петр III своим манифестом о вольностях дворянству в 1762 году нарушил еще и общественный договор (дворяне служат — крестьяне работают), чем еще сильнее разделил “верхи” и “низы”.
А.В. Пыжиков пишет: “Раскольничий мир прочно обосновывался в народных низах, стараясь минимизировать контакты со структурами империи (и мимикрируя под вероисповедание в никонианской церкви — авт.). Стремление к закрытости объяснялось не только причинами административного давления, но и глубоким осознанием собственной правоты”, активно, при этом, используя книги и иконы дониконианских времен.
Важно подчеркнуть историческую уникальность этого феномена: если в Европе 17 века, после завершения религиозных войн, противоборствующие силы оказались по разные стороны границ, и где сложилась конструкция “чья власть, того и вера”, то в России противостояние старообрядцев и никонианцев не привело к территориальному размежеванию. Другими словами, в географически одной стране их оказалось по факту две, как, впрочем, во многом, как и до сих пор…
Завершим раздел еще одной яркой цитатой А.И. Фурсова: “В России низы остались народом, а верхи превратились в квазинацию – со своим языком (le français), культурой и ценностями, которые резко отличались от народных и которые народу нельзя было навязать. В результате классовые противоречия приобрели квазиэтническую форму, что и обусловило крайне жестокий характер «красной смуты» начала ХХ в.”
Другая Россия: поповцы и беспоповцы
Движение старообрядцев, находившееся в оппозиции к официальной церкви, впоследствии разделилось на множество толков, или согласий, различавшихся по вероучению и практикам (хлысты, скопцы, молокане, бегуны, духоборы, субботники и пр.).
Главным же признаком разделяющим старообрядчество на две основные части, стало отношение к священству.
Попо́вцы (“с попами”) признавали необходимость православного священства и всех церковных таинств, поэтому поначалу принимали к себе перебегающих из государственной церкви священников – так возникло течение беглопоповцев. Со временем поповцы учредили и собственную иерархию (Белокриницкое согласие с 1840-х годов), сохраняя дониконовские обряды при практически православном догматическом учении.
Напротив, беспопо́вцы (“без попов”) отвергли институт священников, полагая, что истинное православное священство прервалось из-за всеобщей ереси в официальной Церкви. Беспоповские общины сами совершали обряды (крещение, брак, отпевание и др.) без священников, избирая наставников из мирян. Изначально беспоповцы селились обособленно, часто в глуши: первые общины возникли на Русском Севере (поморы на побережье Белого моря), в Прионежье и на реке Керженец в Нижегородском крае. Со временем беспоповство множилось и, анклавы переросли в регионы. К крупным течениям беспоповцев относились поморцы (выходцы с Севера), федосеевцы, филипповцы, часовенные и другие, широко распространившись в центральной России, Поволжье, Урале и Сибири.
И если поповцы, доля которых не превышала 10%2 от общего числа старообрядцев, уже в 19 веке, фактически, интегрировались, и даже со временем легитимизировались в официальную церковную структуру, то беспоповцы воплотили децентрализованную сетевую экономико-конфессиональную структуру общин без единого руководства как основу своего выживания во враждебной среде, которая оказалась исключительно устойчивой по отношению к внешним факторам.
Необходимо также отметить, что в отличие от других общин, у западных славян или кавказцев, например, которые были, родовыми, русская старообрядческая община была соседской, соборной. А это уже определенные принципы взаимоотношений внутри и иерархии в них. В русской общине искали консенсус, а иерархия формировалась через естественный отбор наиболее работящих, мудрых, способных и активных, выдвигавшихся в Большаки, что как раз и способствовало формированию этой децентрализованной сетевой экономико-конфессиональной структуры старообрядцев. Тогда как в родовых общинах — жесткая иерархия по старшинству и командная система, т.е. устойчивую сетевую систему на таком базисе построить крайне сложно.
Эволюция старообрядческих общин в 19 веке и становление, в основном на базе поповцев, национальной буржуазии во второй половине 19 века (когда, собственно, капитализм и пришел в Россию), которая явилась основным спонсором первой русской революции 1905 года, а также активное участие выходцев из староверческих общин в создании суверенной русской экономической школы — отдельная и интересная история.
Старообрядцы-беспоповцы и советская власть: от сопротивления к сотрудничеству
После революции 1917 года отношение старообрядцев к новой власти было поначалу неоднозначным. С одной стороны, большевистский режим провозгласил отделение церкви от государства и преследовал Русскую православную церковь (РПЦ), что косвенно ослабляло давнего и жесткого притеснителя старообрядцев. Основные лозунги большевиков “Земля — крестьянам” и “Заводы рабочим”3 вполне отвечали представлениям старообрядцев о “Рае на Земле” и поэтому легли на благодатную почву. Как результат, они с энтузиазмом наполнили ряды создаваемой рабоче-крестьянской Красной Армии (костяк пролетариата, в основном, также формировался из выходцев старообрядческих общин).
Террор, устроенный священникам никонианской церкви в период гражданской войны тоже объясняется не столько воинственным атеизмом революционеров, сколько тем, что для старообрядцев-беспоповцев священники никонианской церкви были исчадием сатаны. Разумеется, объявленный в “революционном порыве” государственный атеизм затронул все конфессии России, в том числе и старообрядцев-беспоповцев, как глубоко верующих людей. Хотя, справедливости ради, их он коснулся в меньшей мере, поскольку старое вероисповедание не просто не демонстрировалось, но и скрывалось в привычной форме, выработанной за два предыдущих столетия гонений.
Предпринятые Советской Властью изначально формы и методы коллективизации — коммуны — встречали острое противодействие. Ошибки навязываемых форм были осознаны — вышла статья И.В. Сталина “Головокружение от успехов”, где подобным “перегибам” была дана оценка, и далее коллективизация уже основывалась на форме колхозов. Предложенные Советской властью формы коллективных хозяйств — колхозы и артели — вписывались в привычные для староверов формы кооперации (взять хотя бы очень очевидное сходство типовой формы устава колхоза с правилами сельской старообрядческой общины). Были конечно и единичные случаи, когда староверческие крестьянские общины сопротивлялись и созданию колхозов. Известно, например, восстание старообрядцев-приморцев в 1932 году на Дальнем Востоке4.
Но, в основном, была другая картина: большая часть старообрядцев проявила гибкость и адаптировалась к большевистской власти5. Исследования6 показывают, что в старообрядческих селениях большей частью старались не вступать в конфликт, а найти компромисс с советами, воспользовавшись уже за века сложившимися практиками и возможностями самоорганизации. Например, в деревне Рублёво Вятской губернии (значительный центр беспоповского даниловского согласия) местные жители самостоятельно создали сельскохозяйственную коммуну–артель еще в 1924 году, задолго до официальной сплошной коллективизации. Председателем артели стал старовер Иван Рублёв, и на базе этой добровольной общины позже организовали колхоз “Маяк”. По архивным данным, рублёвцы сами выступили инициаторами артели, желая предотвратить вмешательство посторонних в жизнь деревни; все жители дружно записали себя в категорию “бедняков”, чтобы соответствовать советским критериям и избежать раскулачивания — старообрядческие общинники, благодаря своему трудолюбию и рачительности, в основном, были зажиточными.
Похожим образом старообрядцы в Нижегородской губернии легализовали свои общины в колхозы, дав местной власти обещание не вести антисоветскую агитацию, тем самым сохраняли внутреннюю автономию взамен на лояльность. Эти примеры показывают, что традиция общинного самоуправления у староверов во многом трансформировалась в поддержку колхозных (кооперативных) начинаний советской власти, но при условии, что они сами контролируют процесс. Фактически старообрядческие общины, особенно беспоповские, обладали опытом артельной организации труда и взаимопомощи, восходящим еще к дореволюционной эпохе, когда артели ремесленников, старообрядческие торговые гостиные и землячества были наиболее распространенной формой экономики.
Советская власть во многом продолжила эту линию: в сталинский период малое и среднее предпринимательство, выраженное в кооперативной форме, составляло весьма значительную часть народного хозяйства. К концу 1950-х годов, помимо колхозов (с/х кооперации), которые составляли более 90% всего сельского хозяйства СССР, в “системе артелей насчитывалось свыше 114 тыс. мастерских и других промышленных предприятий, где работали 1,8 млн. человек. Они производили 5,9% валовой продукции промышленности (например, до 40% всей мебели, до 70% всей металлической посуды, более трети верхнего трикотажа, почти все детские игрушки). Первые советские стиральные машины, телевизоры и холодильники были кооперативными продуктами. Артели давали 9% стоимости всей промышленной продукции и 80% товарного разнообразия (33 444 наименования товаров — почти в 4 раза больше, чем плановая промышленность СССР). В систему промысловой кооперации входило 100 конструкторских бюро, 22 экспериментальные лаборатории и 2 научно-исследовательских института”7. В этих артелях и кустарных промысловых артелях, как правило, лидерами становились выходцы из староверческой среды, сохранившие навыки самоорганизации.
Сталинские выдвиженцы из староверия
Поворотной точкой взаимоотношений старообрядцев и советского государства стали 1930-е годы – эпоха “большого террора” и последующее формирование новой номенклатуры. Именно тогда, как отмечает А. В. Пыжиков, И.В. Сталин начал опираться на кадры, происходившие из старообрядческих семей. В результате “чисток”, конец 1930-х ознаменовался приходом в руководство множества новых людей, и большинство этих сталинских выдвиженцев были не просто русскими по национальности, но выходцами из староверия и, в основном, беспоповского. Такая тенденция ранее оставалась вне поля зрения исследователей, но биографии ряда советских наркомов и партсекретарей подтверждают ее. Так, нарком финансов Арсений Зверев вырос в Подмосковье на крупной текстильной фабрике, где подавляющее большинство четырёхтысячного коллектива составляли старообрядцы-федосеевцы. А. Зверев вспоминал, что его отец открыто насмехался над официальными священнослужителями (которых в староверческой среде презрительно звали “жеребячья порода”). Зверев получил советское экономическое образование и стремительно продвинулся до поста министра финансов СССР, славясь строгой бережливостью и ответственностью – качествами, которые закладывались еще в той старообрядческой трудовой общине. Подобных примеров много: будущий маршал Дмитрий Устинов родился в селе беспоповцев, женился на потомственной староверке-ткачихе, и в 33 года стал наркомом вооружений, а позже и Министром Обороны СССР. Николай Булганин, председатель Совнаркома РСФСР, происходил из нижегородской староверческой семьи (его предки-беглопоповцы были связаны с крупными купцами-староверами). Николай Казаков — нарком тяжелого машиностроения – выходец из рабочей староверческой семьи на Урале. Перечень можно и продолжить: “Всероссийский староста” М.И. Калинин, и пришедший ему на смену Н.М. Шверник, А.А. Громыко…
С чем же связана эта “ставка на староверов”? По мнению А.В. Пыжикова, Сталин ценил в них ментальные особенности, воспитавшие упорство, скромность и трудовую дисциплину. Вождь стремился окружить себя молодыми, энергичными и настойчивыми руководителями – а такими качествами, благодаря традициям воспитания, прежде всего и отличались выходцы из беспоповского староверия. Действительно, сравнения показывают, что эти люди были менее склонны к карьеризму, роскоши и семейственности. Исторические материалы свидетельствуют, что “ленинградская” партийная элита конца 1940-х (Вознесенский, Кузнецов и др.) погрязла в кумовстве и интригах, тогда как выдвиженцы из старообрядцев демонстрировали гораздо большую сдержанность и аскетизм в быту. Не случайно в послевоенные годы, когда СССР стал мировой сверхдержавой, Сталин фактически встал на сторону “староверческих кадров” в противовес влиятельной группировке “ленинградцев”. Их реальный вклад в индустриализацию и оборону страны оказался важнее для него, чем заслуги идеологов и пропагандистов. Советское руководство послевоенного периода опиралось на проверенных делом людей – зачастую с семейными корнями в тех самых раскольничьих, и в основном, беспоповских общинах, которые более двухсот лет противостояли официозу. Иными словами, старообрядческий этос – трудовой, общинный, нелицеприятный к начальству – оказался созвучен духу сталинской модернизации. И именно его партийная бюрократия с наступлением “хрущевской слякоти” и вступила в борьбу для укрепления своей власти и гарантии привилегий, что, в конечном результате и привело к очередному “вхожденчеству в Запад” и развалу страны. Но это уже отдельная история…
“Беспоповский код” в современной России
Интересная гипотеза, получившая распространение в последние годы, состоит в том, что культура беспоповского староверия наложила отпечаток на советский и даже постсоветский менталитет. Эту идею популяризировал А. В. Пыжиков, предлагая свежий взгляд на истоки русского большевизма. По его версии, советское общество по своему складу – это общество беспоповцев, а официальная РПЦ для него была во многом “инородной церковью”. Большевистская модель коллективизма и отрицания частной собственности оказалась ближе к беспоповским идеалам (общинной жизни без посредников-священников), тогда как западный путь либерального капитализма ассоциируется скорее с “поповской” моделью (иерархия, частная собственность как священная). Пыжиков в одном из интервью прямо утверждал: «Советская команда — беспоповцы. Поповская модель — модель западная, частная собственность — святое, […] Основная масса [русского народа], внецерковная, беспоповская — то, на чем вырос СССР. Они его и сделали. Они все свои представления о жизни, о том, как это должно быть устроено, подняли на уровень [государственной идеологии]». Эта концепция, конечно, дискуссионна, но она находит и отклик и подтверждения в исследованиях Русского Культурного Кода (С.Б. Переслегин, А.Г. Теслинов).
Через призму “старообрядческого кода” появляются внятные объяснения многих социальных явлений, как современных, так и в недавней истории. В экономике это сообщества, составляющие ее “теневую” часть и, вовсе не обязательно криминального или полукриминального толка — это многочисленные сообщества совместного потребления, сообщества по интересам и даже защиты (как, в последнее время, от беспредела мигрантов).
Заметны и проявления поведенческих факторов, например, феномен недоверия к официальным институтам имеет параллели с поведением староверов, вынужденных веками жить “в тени” официальной церкви и мимикрировать. Массовый советский атеизм тоже приобрел черты своего рода беспоповства: миллионы советских людей остались верны православным обычаям (иконы в доме, молитвы, праздники) без посредничества церкви, фактически как беспоповцы, сохраняли веру (выраженную в стойких морально-нравственных императивах) самостоятельно.
Преемственность культурных паттернов – от раскольничьих общин к советскому коллективизму и далее к неформальным сетям сообществ и доменов в современной России – все более очевидна. В этом виден ответ и на вопрос о загадках национального характера: русский народ не мог не впитать в свой “когнитивный код” элементы беспоповского старообрядчества, такие как общинность, скепсис к внешним авторитетам и способность к самопожертвованию ради “своих”.
С распадом СССР в 1991 году общественный договор был еще раз нарушен Властью и, до сих пор Россия его не восстановила полноценным образом. Разрушение советского проекта создало ‘общество травмы’, в котором кооперация, солидарность и коллективное целеполагание были вытеснены через навязывание наиболее радикальной формы индивидуализма — “люби себя, наплюй на всех и в жизни ждет тебя успех”, извращенным представлением о рыночных механизмах ( а по-сути, монополизме), цинизмом и апатией.
Однако сегодня именно Россия, с ее историческими корнями, способными соединить индивидуальную инициативу с коллективным смыслом, имеет шанс стать центром новой миросистемной модели — платформенно-кооперативной, сетевой, основанной на координации, а не принуждении.
Такой проект может быть не только российским, но универсальным: он может предложить “ковчег” будущего — защиту от антигуманистических трендов посткапитализма. Кооперативный путь развития может стать основой цивилизационного контрпроекта — не в виде изоляции, а в виде сетевого предложения миру, основанного на других основаниях: доверии, распределенности, суверенитете труда и эквивалентном обмене.
Кооперативная экономика — это не реликт прошлого, а архитектура будущего. В условиях, когда капитализм исчерпал себя, а его цифровые мутации несут угрозу человеческой субъектности, именно кооперативный подход способен восстановить баланс между эффективностью и справедливостью, автономией и сообществом, инновацией и традицией. Россия, обладающая уникальным культурно-историческим ресурсом, имеет все основания стать не догоняющей моделью, а формирующей мировую альтернативу. Вопрос в том, сможем ли мы предложить не только протест, но и проект.
Источники: Арриги Г. «Длинный ХХ век», Валлерстайн И. «Конец знакомого мира», Бродель Ф. «Материальная цивилизация…», Поланьи К. «Великая трансформация», Зубофф Ш. «Эпоха надзорного капитализма: борьба за будущее человечества на новых рубежах власти», А.В. Пыжиков — “Корни Сталинского Большевизма”, публицистические материалы А.И. Фурсова, а также современные работы по кооперативной экономике (Coopenomics, 2025) и данные о примерах Migros и WIR; Григорьев О.В. Эпоха роста. Лекции по неокономике. Расцвет и упадок мировой экономической системы.
1 Арриги, к слову, подчеркивал, что ни один гегемон не соответствовал образу “национального государства” в чистом виде: первые были меньше национального государства, последние – больше (США к концу XX века стали ядром целой мировой империи, превосходя обычные государства по функциям).
2 Согласно исследований и расчетов А.В. Пыжикова — “Корни Сталинского Большевизма”
3 Согласно исследований А.В. Пыжикова в работе “Корни Сталинского Большевизма” пролетариат формировался, в основном, из представителей старообрядцев-беспоповцев
4 Объяснение этому также дает А.В.Пыжиков в своих работах — согласно изученных им документов, старообрядцы, у которых труд на благо общины, рачительность и трезвость — норма, очень не хотели объединяться с общинами, приверженными синодальной церкви, зачастую погрязших в пьянстве и лени.
5 “Большевик” было созвучно Большаку, а так называли авторитетов старообрядческих общин — “большевиков любим, а коммунистов не особо”.
6 Сахарова Л.Г., Поляков А.Г. Староверы и советская власть: адаптация и конфликт… (примеры старообрядческих коммун в 1920-е)
7 Смуров И.И., Давлетбаев Р.Х. Кооперативная (моральная) экономика // Экономические стратегии.
2023. No6(192). С. 120–133. DOI: https://doi.org/10.33917/es-6.192.2023.120-133